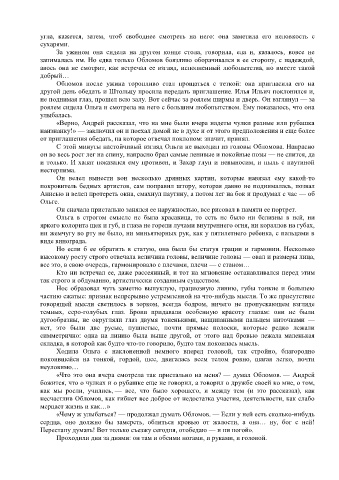Page 106 - Обломов
P. 106
угла, кажется, затем, чтоб свободнее смотреть на него: она заметила его неловкость с
сухарями.
За ужином она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не
занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с надеждой,
авось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства, но вместе такой
добрый…
Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой: она пригласила его на
другой день обедать и Штольцу просила передать приглашение. Илья Ильич поклонился и,
не поднимая глаз, прошел всю залу. Вот сейчас за роялем ширмы и дверь. Он взглянул — за
роялем сидела Ольга и смотрела на него с большим любопытством. Ему показалось, что она
улыбалась.
«Верно, Андрей рассказал, что на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка
наизнанку!» — заключил он и поехал домой не в духе и от этого предположения и еще более
от приглашения обедать, на которое отвечал поклоном: значит, принял.
С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно
он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы — не спится, да
и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной
нестерпима.
Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то
покровитель бедных артистов, сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал
Анисью и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал с час — об
Ольге.
Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет.
Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни
яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни кораллов на губах,
ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в
виде винограда.
Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько
высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы — овал и размеры лица,
все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи — с станом…
Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим
так строго и обдуманно, артистически созданным существом.
Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию, губы тонкие и большею
частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие
говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде
темных, серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам: они не были
дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками —
нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали
симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая
складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль.
Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно
покоившейся на тонкой, гордой, шее, двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти
неуловимо…
«Что это она вчера смотрела так пристально на меня? — думал Обломов. — Андрей
божится, что о чулках и о рубашке еще не говорил, а говорил о дружбе своей ко мне, о том,
как мы росли, учились, — все, что было хорошего, и между тем (и это рассказал), как
несчастлив Обломов, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо
мерцает жизнь и как…»
«Чему ж улыбаться? — продолжал думать Обломов. — Если у ней есть сколько-нибудь
сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью от жалости, а она… ну, бог с ней!
Перестану думать! Вот только съезжу сегодня, отобедаю — и ни ногой».
Проходили дни за днями: он там и обеими ногами, и руками, и головой.