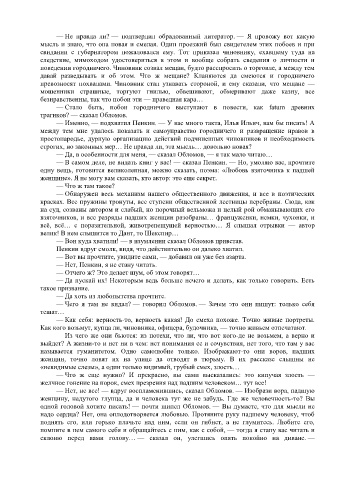Page 14 - Обломов
P. 14
— Не правда ли? — подтвердил обрадованный литератор. — Я провожу вот какую
мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при
свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на
следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и
поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем
давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего
превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане —
мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все
безнравственны, так что побои эти — праведная кара…
— Стало быть, побои городничего выступают в повести, как fatum древних
трагиков? — сказал Обломов.
— Именно, — подхватил Пенкин. — У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А
между тем мне удалось показать и самоуправство городничего и развращение нравов в
простонародье, дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость
строгих, но законных мер… Не правда ли, эта мысль… довольно новая?
— Да, в особенности для меня, — сказал Обломов, — я так мало читаю…
— В самом деле, не видать книг у вас! — сказал Пенкин. — Но, умоляю вас, прочтите
одну вещь, готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей
женщине». Я не могу вам сказать, кто автор: это еще секрет.
— Что ж там такое?
— Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических
красках. Все пружины тронуты, все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как
на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа и целый рой обманывающих его
взяточников, и все разряды падших женщин разобраны… француженки, немки, чухонки, и
всё, всё… с поразительной, животрепещущей верностью… Я слышал отрывки — автор
велик! В нем слышится то Дант, то Шекспир…
— Вон куда хватили! — в изумлении сказал Обломов привстав.
Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.
— Вот вы прочтите, увидите сами, — добавил он уже без азарта.
— Нет, Пенкин, я не стану читать.
— Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят…
— Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть
такое призвание.
— Да хоть из любопытства прочтите.
— Чего я там не видал? — говорил Обломов. — Зачем это они пишут: только себя
тешат…
— Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты.
Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, — точно живьем отпечатают.
— Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де не возьмем, а верно и
выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас
называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших
женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не
«невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость…
— Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость —
желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком… тут все!
— Нет, не все! — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора, падшую
женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы
одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не
надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб
поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его,
помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и
склоню перед вами голову… — сказал он, улегшись опять покойно на диване. —