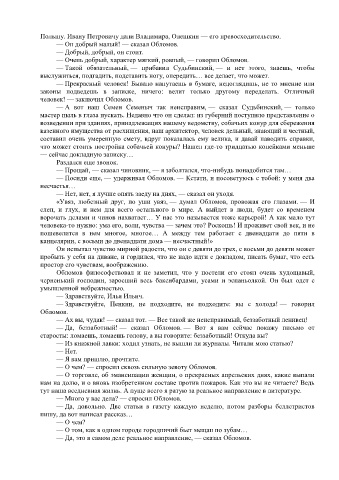Page 13 - Обломов
P. 13
Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира, Олешкин — его превосходительство.
— Он добрый малый! — сказал Обломов.
— Добрый, добрый, он стоит.
— Очень добрый, характер мягкий, ровный, — говорил Обломов.
— Такой обязательный, — прибавил Судьбинский, — и нет этого, знаешь, чтобы
выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить… все делает, что может.
— Прекрасный человек! Бывало напутаешь в бумаге, недоглядишь, не то мнение или
законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отличный
человек! — заключил Обломов.
— А вот наш Семен Семеныч так неисправим, — сказал Судьбинский, — только
мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о
возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения
казенного имущества от расхищения, наш архитектор, человек дельный, знающий и честный,
составил очень умеренную смету, вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки,
что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше
— сейчас докладную записку…
Раздался еще звонок.
— Прощай, — сказал чиновник, — я заболтался, что-нибудь понадобится там…
— Посиди еще, — удерживал Обломов. — Кстати, и посоветуюсь с тобой: у меня два
несчастья…
— Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, — сказал он уходя.
«Увяз, любезный друг, по уши увяз, — думал Обломов, провожая его глазами. — И
слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем
ворочать делами и чинов нахватает… У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут
человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не
пошевелится в нем многое, многое… А между тем работает с двенадцати до пяти в
канцелярии, с восьми до двенадцати дома — несчастный!»
Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может
пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть
простор его чувствам, воображению.
Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый,
черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с
умышленной небрежностью.
— Здравствуйте, Илья Ильич.
— Здравствуйте, Пенкин, не подходите, не подходите: вы с холода! — говорил
Обломов.
— Ах вы, чудак! — сказал тот. — Все такой же неисправимый, беззаботный ленивец!
— Да, беззаботный! — сказал Обломов. — Вот я вам сейчас покажу письмо от
старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?
— Из книжной лавки: ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?
— Нет.
— Я вам пришлю, прочтите.
— О чем? — спросил сквозь сильную зевоту Обломов.
— О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали
нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров. Как это вы не читаете? Ведь
тут наша вседневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе.
— Много у вас дела? — спросил Обломов.
— Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов
пишу, да вот написал рассказ…
— О чем?
— О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам…
— Да, это в самом деле реальное направление, — сказал Обломов.