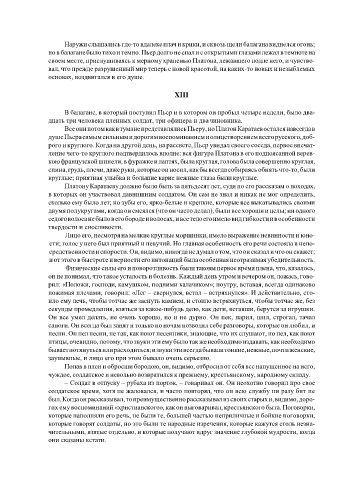Page 28 - Война и мир 4 том
P. 28
Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь;
но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на
своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувство-
вал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых
основах, воздвигался в его душе.
XIII
В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было два-
дцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.
Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в
душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доб-
рого и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечат-
ление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной верев-
кою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая,
спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были
круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах,
в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить,
сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими
двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного
седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности
твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юно-
сти; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непо-
средственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет;
и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось,
он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, гово-
рил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково
пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, сто-
ило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без
секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки.
Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал
сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и
песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют
птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо
бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские,
заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него,
чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое
солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не
был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, доро-
гих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки,
которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки,
которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незна-
чительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда
они сказаны кстати.