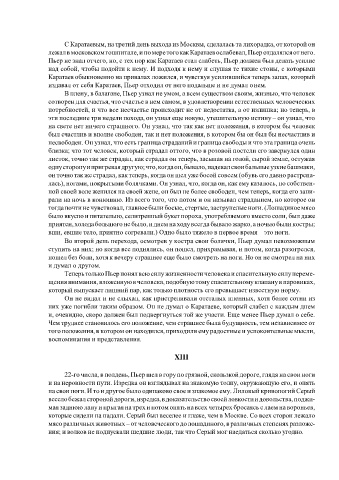Page 89 - Война и мир 4 том
P. 89
С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он
лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него.
Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие
над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми
Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который
издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.
В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек
сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих
потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в
эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину – он узнал, что
на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек
был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и
несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень
близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один
листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая
одну сторону и пригревая другую; что, когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки,
он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепа-
лась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собствен-
ной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запи-
рали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он
тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо
было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже
приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры;
вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время – это ноги.
Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным
ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся,
пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них
и думал о другом.
Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу переме-
щения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках,
который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.
Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из
них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем
и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе.
Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от
того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли,
воспоминания и представления.
XIII
22-го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги
и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять
на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый
весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджи-
мая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев,
которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало
мясо различных животных – от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложе-
ния; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.