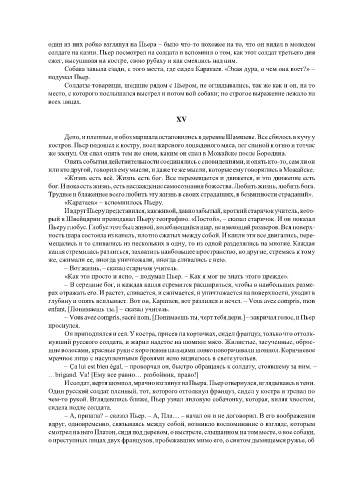Page 92 - Война и мир 4 том
P. 92
один из них робко взглянул на Пьера – было что-то похожее на то, что он видел в молодом
солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня
сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.
Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» –
подумал Пьер.
Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то
место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на
всех лицах.
XV
Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у
костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас
же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.
Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он
или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.
«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть
бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога.
Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
«Каратаев» – вспомнилось Пьеру.
И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, кото-
рый в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал
Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверх-
ность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, пере-
мещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая
капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому
же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.
– Вот жизнь, – сказал старичок учитель.
«Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».
– В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших разме-
рах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в
глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. – Vous avez compris, mon
enfant, [Понимаешь ты.] – сказал учитель.
– Vous avez compris, sacré nom, [Понимаешь ты, черт тебя дери.] – закричал голос, и Пьер
проснулся.
Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолк-
нувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, оброс-
шие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое
мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.
– Ça lui est bien égal, – проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. –
…brigand. Va! [Ему все равно… разбойник, право!]
И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени.
Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по
чем-то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом,
сидела подле солдата.
– А, пришла? – сказал Пьер. – А, Пла… – начал он и не договорил. В его воображении
вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым
смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки,
о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об