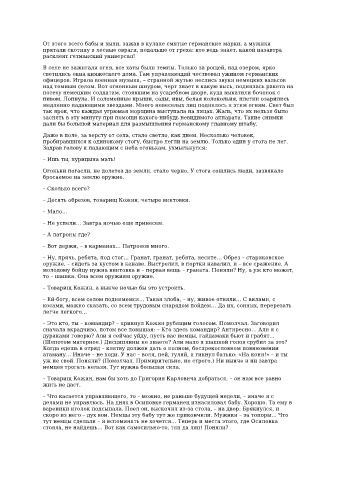Page 51 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 51
От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки, а мужики
прятали скотину в лесные овраги, подальше от греха: кто ведь знает, какой назавтра
расклеят гетманский универсал!
В селе не зажигали огня, все хаты были темны. Только за рощей, над озером, ярко
светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских
офицеров. Играла военная музыка, – странной жутью неслись звуки немецких вальсов
над темным селом. Вот огненным шнуром, черт знает в какую высь, поднялась ракета на
потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с
пивом. Лопнула. И соломенные крыши, сады, ивы, белая колокольня, плетни озарились
медленно падающими звездами. Много невеселых лиц поднялось к этим огням. Свет был
так ярок, что каждая угрюмая морщина выступала на лицах. Жаль, что их нельзя было
заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь невидимого аппарата. Такие снимки
дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу.
Даже в поле, за версту от села, стало светло, как днем. Несколько человек,
пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один у стога не лег.
Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся:
– Ишь ты, курицына мать!
Огоньки погасли, не долетев до земли, стало черно. У стога сошлись люди, зазвякало
бросаемое на землю оружие.
– Сколько всего?
– Десять обрезов, товарищ Кожин, четыре винтовки.
– Мало…
– Не успели… Завтра ночью еще принесем.
– А патроны где?
– Вот держи, – в карманах… Патронов много.
– Ну, прячь, ребята, под стог… Гранат, гранат, ребята, несите… Обрез – стариковское
оружие, – сидеть за кустом в канаве. Выстрелил, в портки навалил, и – все сражение. А
молодому бойцу нужна винтовка и – первая вещь – граната. Поняли? Ну, а уж кто может,
то – шашка. Она всем оружиям оружие.
– Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить.
– Ей-богу, всем селом поднимемся… Такая злоба, – ну, живое отняли… С вилами, с
косами, можно сказать, со всем трудовым снарядом пойдем… Да их, сонных, перерезать
легче легкого…
– Это кто, ты – командир? – крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил
сначала вкрадчиво, потом все повышая: – Кто здесь командир? Антиресно… Али я с
дураками говорю? Али я сейчас уйду, пусть вас немцы, гайдамаки бьют и грабят…
(Шепотом матерное.) Дисциплины не знаете? Али мало я шашкой голов срубил за это?
Когда едешь в отряд – клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении
атаману… Иначе – не ходи. У нас – воля, пей, гуляй, а гикнул батько: «На коня!» – и ты
уж не свой. Поняли? (Помолчал. Примирительно, но строго.) Ни нынче и ни завтра
немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила.
– Товарищ Кожин, нам бы хоть до Григория Карловича добраться, – он нам все равно
жить не даст.
– Что касается управляющего, то – можно, не раньше будущей недели, – иначе я с
делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо. Та ему в
вареники иголок подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола, – на двор. Брякнулся, и
скоро из него – дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики – за топоры… Что
тут немцы сделали – и вспоминать не хочется… Теперь и места этого, где Осиповка
стояла, не найдешь… Вот как самосильно-то, тяп да ляп! Поняли?