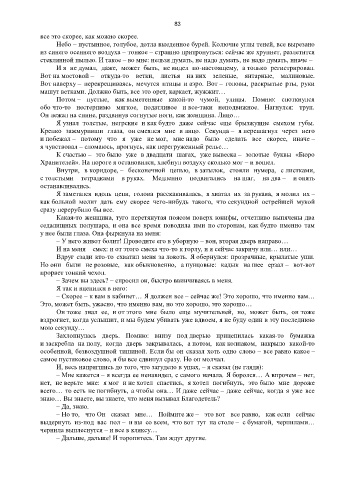Page 83 - Мы
P. 83
83
все это скорее, как можно скорее.
Небо – пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано
из синего осеннего воздуха – тонкое – страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится
стеклянной пылью. И такое – во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе –
И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал.
Вот на мостовой – откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые.
Вот наверху – перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот – головы, раскрытые рты, руки
машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит…
Потом – пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся
обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп.
Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо…
Я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом губы.
Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда – я перешагнул через него
и побежал – потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе –
я чувствовал – сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс…
К счастью – это было уже в двадцати шагах, уже вывеска – золотые буквы «Бюро
Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху сколько мог – и вошел.
Внутри, в коридоре, – бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками,
с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два – и опять
останавливались.
Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их –
как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой
сразу перерубило бы все.
Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два
седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там
у нее были глаза. Она фыркнула на меня:
– У него живот болит! Проводите его в уборную – вон, вторая дверь направо…
И на меня – смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или… или…
Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши.
Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал – вот-вот
прорвет тонкий чехол.
– Зачем вы здесь? – спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.
Я так и вцепился в него:
– Скорее – к вам в кабинет… Я должен все – сейчас же! Это хорошо, что именно вам…
Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо…
Он тоже знал ее, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже
вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю
мою секунду…
Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка
и заскребла на полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то
особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово – все равно какое –
самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.
И, весь напрягшись до того, что загудело в ушах, – я сказал (не глядя):
– Мне кажется – я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся… А впрочем – нет,
нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже
всего… то есть не погибнуть, а чтобы она… И даже сейчас – даже сейчас, когда я уже все
знаю… Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?
– Да, знаю.
– Но то, что Он сказал мне… Поймите же – это вот все равно, как если сейчас
выдернуть из-под вас пол – и вы со всем, что вот тут на столе – с бумагой, чернилами…
чернила выплеснутся – и все в кляксу…
– Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.