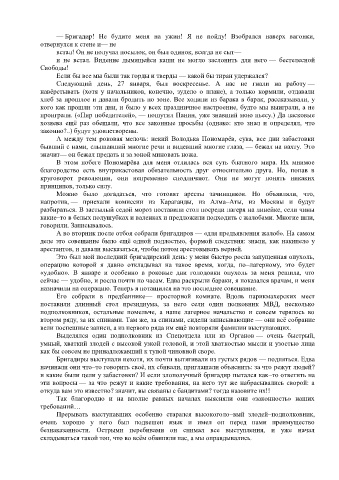Page 736 - Архипелаг ГУЛаг
P. 736
— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду! Взобрался наверх вагонки,
отвернулся к стене и— не
встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт—
и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной
Свободы!
Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?
Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу —
навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, отдавали
хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у
кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не
проиграли. («Пир победителей», — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу.) Да ласковые
хозяева ещё раз обещали, что все законные просьбы (однако: кто знал и определял, что
законно?..) будут удовлетворены.
А между тем роковая мелочь: некий Володька Пономарёв, сука, все дни забастовки
бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, — бежал на вахту. Это
значит— он бежал предать и за зоной миновать ножа.
В этом побеге Пономарёва для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое
благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но, попав в
круговорот революции, они непременно сподличают. Они не могут понять никаких
принципов, только силу.
Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков. Но объявляли, что,
напротив, — приехали комиссии из Караганды, из Алма–Аты, из Москвы и будут
разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке, сели чины
какие–то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли,
говорили. Записывалось.
А во вторник после отбоя собрали бригадиров — «для предъявления жалоб». На самом
деле это совещание было ещё одной подлостью, формой следствия: знали, как накипело у
арестантов, и давали высказаться, чтобы потом арестовывать верней.
Это был мой последний бригадирский день: у меня быстро росла запущенная опухоль,
операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по–лагерному, это будет
«удобно». В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что
сейчас — удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня
назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.
Его собрали в предбаннике— просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест
поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД, несколько
подполковников, остальные помельче, а наше лагерное начальство и совсем терялось во
втором ряду, за их спинами. Там же, за спинами, сидели записывающие — они всё собрание
вели поспешные записи, а из первого ряда им ещё повторяли фамилии выступающих.
Выделялся один подполковник из Спецотдела или из Органов — очень быстрый,
умный, хваткий злодей с высокой узкой головой, и этой хваткостью мысли и узостью лица
как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной своре.
Бригадиры выступали нехотя, их почти вытягивали из густых рядов — подняться. Едва
начинали они что–то говорить своё, их сбивали, приглашали объяснить: за что режут людей?
и какие были цели у забастовки? И если злополучный бригадир пытался как–то ответить на
эти вопросы — за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались сворой: а
откуда вам это известно? значит, вы связаны с бандитами? тогда назовите их!!
Так благородно и на вполне равных началах выясняли они «законность» наших
требований…
Прерывать выступавших особенно старался высокоголо–вый злодей–подполковник,
очень хорошо у него был подвешен язык и имел он перед нами преимущество
безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал
складываться такой тон, что во всём обвиняли нас, а мы оправдывались.