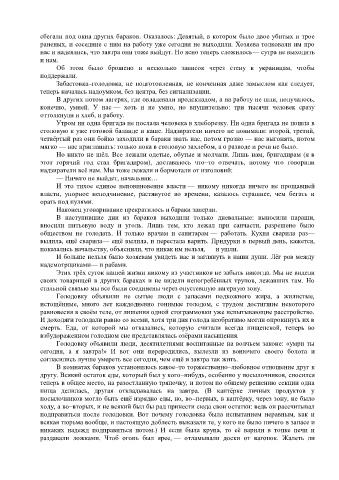Page 732 - Архипелаг ГУЛаг
P. 732
сбегали под окна других бараков. Оказалось: Девятый, в котором было двое убитых и трое
раненых, и соседние с ним на работу уже сегодня не выходили. Хозяева толковали им про
нас и надеялись, что завтра они тоже выйдут. Но ясно теперь сложилось— сутра не выходить
и нам.
Об этом было брошено и несколько записок через стену к украинцам, чтобы
поддержали.
Забастовка–голодовка, не подготовленная, не конченная даже замыслом как следует,
теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации.
В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, получалось,
конечно, умней. У нас — хоть и не умно, но внушительно: три тысячи человек сразу
оттолкнули и хлеб, и работу.
Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не пошла в
столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали: второй, третий,
четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно — нас выгонять, потом
мягко — нас приглашать: только пока в столовую захлебом, а о разводе и речи не было.
Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь нам, бригадирам (я в
этот горячий год стал бригадиром), доставалось что–то отвечать, потому что говорили
надзиратели всё нам. Мы тоже лежали и бормотали от изголовий:
— Ничего не выйдет, начальник…
И это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей
власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и
орать под пулями.
Наконец уговаривание прекратилось и бараки заперли.
В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили параши,
вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было
обществом не голодать. И только врачам и санитарам — работать. Кухня сварила раз—
вылила, ещё сварила— ещё вылила, и перестала варить. Придурки в первый день, кажется,
показались начальству, объяснили, что никак им нельзя, — и ушли.
И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров между
надсмотрщиками— и рабами.
Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели
своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, лежавших там. Но
стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону.
Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые,
истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого
равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство.
И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в
смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во
взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения.
Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: «умри ты
сегодня, а я завтра!» И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и
согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить.
В комнатах бараков установилось какое–то торжественно–любовное отношение друг к
другу. Всякий остаток еды, который был у кого–нибудь, особенно у посылочников, сносился
теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и потом по общему решению секции одна
пища делилась, другая откладывалась на завтра. (В каптёрке личных продуктов у
посылочников могло быть ещё изрядно еды, но, во–первых, в каптёрку, через зону, не было
ходу, а во–вторых, и не всякий был бы рад принести сюда свои остатки: ведь он рассчитывал
подправиться после голодовки. Вот почему голодовка была испытанием неравным, как и
всякая тюрьма вообще, и настоящую доблесть выказали те, у кого не было ничего в запасе и
никаких надежд подправиться потом.) И если была крупа, то её варили в топке печи и
раздавали ложками. Чтоб огонь был ярее, — отламывали доски от вагонок. Жалеть ли