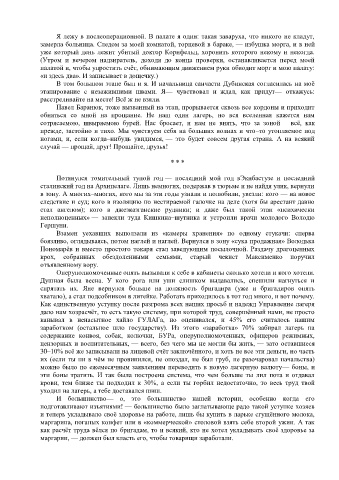Page 739 - Архипелаг ГУЛаг
P. 739
Я лежу в послеоперационной. В палате я один: такая заваруха, что никого не кладут,
замерла больница. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, — избушка морга, и в ней
уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда.
(Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей
палатой и, чтобы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату:
«и здесь два». И записывает в дощечку.)
В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё
этапирование с незажившими швами. Я— чувствовал и ждал, как придут— откажусь:
расстреливайте на месте! Всё ж не взяли.
Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит
обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам
сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной— всё, как
прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что–то утопляемое под
ногами, и, если когда–нибудь увидимся, — это будет совсем другая страна. А на всякий
случай — прощай, друг! Прощайте, друзья!
* * *
Потянулся томительный тупой год — последний мой год вЭкибастузе и последний
сталинский год на Архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули
в зону. А многих–многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли: кого — на новое
следствие и суд; кого в изоляцию по нестираемой галочке на деле (хотя бы арестант давно
стал ангелом); кого в джезказганские рудники; и даже был такой этап «психически
неполноценных» — запекли туда Кишкина–шутника и устроили врачи молодого Володю
Гершуни.
Взамен уехавших выползали из «камеры хранения» по одному стукачи: сперва
боязливо, оглядываясь, потом наглей и наглей. Вернулся в зону «сука продажная» Володька
Пономарёв и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных
крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил
отъявленному вору.
Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты сколько хотели и кого хотели.
Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и
спрятать их. Яне вернулся больше на должность бригадира (уже и бригадиров опять
хватало), а стал подсобником в литейке. Работать приходилось в тот год много, и вот почему.
Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд Управление лагеря
дало нам хозрасчёт, то есть такую систему, при которой труд, совершённый нами, не просто
канывал в ненасытное хайло ГУЛАГа, но оценивался, и 45% его считалось нашим
заработком (остальное шло государству). Из этого «заработка» 70% забирал лагерь на
содержание конвоя, собак, колючки, БУРа, оперуполномоченных, офицеров режимных,
цензорных и воспитательных, — всего, без чего мы не могли бы жить, — зато оставшиеся
30–10% всё же записывали на лицевой счёт заключённого, и хоть не все эти деньги, но часть
их (если ты ни в чём не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальства)
можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту— боны, и
эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пота и отдавал
крови, тем ближе ты подходил к 30%, а если ты горбил недостаточно, то весь труд твой
уходил на лагерь, а тебе доставался шиш.
И большинство— о, это большинство нашей истории, особенно когда его
подготавливают изъятиями! — большинство было заглатывающе радо такой уступке хозяев
и теперь укладывало своё здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущённого молока,
маргарина, поганых конфет или в «коммерческой» столовой взять себе второй ужин. А так
как расчёт труда вёлся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать своё здоровье за
маргарин, — должен был класть его, чтобы товарищи заработали.