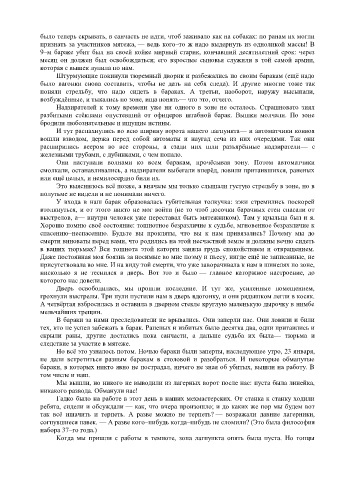Page 731 - Архипелаг ГУЛаг
P. 731
было теперь скрывать, в санчасть не идти, чтоб заживало как на собаках: по ранам их могли
признать за участников мятежа, — ведь кого–то ж надо выдернуть из одноликой массы! В
9–м бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок: через
месяц он должен был освобождаться; его взрослые сыновья служили в той самой армии,
которая с вышек лупила по нам.
Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам (ещё надо
было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие многие тоже так
поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи, наоборот, наружу высыпали,
возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять— что это, отчего.
Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял
разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне
бродили любознательные и ищущие истины.
И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта— и автоматчики конвоя
вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они
расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъярённые надзиратели— с
железными трубами, с дубинками, с чем попало.
Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автоматчики
смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся, раненых
или ещё целых, и немилосердно били их.
Это выяснилось всё позже, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в
полутьме не видели и не понимали ничего.
У входа в наш барак образовалась губительная толкучка: зэки стремились поскорей
втолкнуться, и от этого никто не мог войти (не то чтоб досочки барачных стен спасали от
выстрелов, а— внутри человек уже переставал быть мятежником). Там у крыльца был и я.
Хорошо помню своё состояние: тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к
спасению–неспасению. Будьте вы прокляты, что вы к нам привязались? Почему мы до
смерти виноваты перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть
в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги заняла грудь спокойствием и отвращением.
Даже постоянная моя боязнь за носимые во мне поэму и пьесу, нигде ещё не записанные, не
присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне,
нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было — главное каторжное настроение, до
которого нас довели.
Дверь освободилась, мы прошли последние. И тут же, усиленные помещением,
грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк.
А четвёртая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе
мельчайших трещин.
В бараки за нами преследователи не врывались. Они заперли нас. Они ловили и били
тех, кто не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и
скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была— тюрьма и
следствие за участие в мятеже.
Но всё это узналось потом. Ночью бараки были заперты, наследующее утро, 23 января,
не дали встретиться разным баракам в столовой и разобраться. И некоторые обманутые
бараки, в которых никто явно не пострадал, ничего не зная об убитых, вышли на работу. В
том числе и наш.
Мы вышли, но никого не выводили из лагерных ворот после нас: пуста была линейка,
никакого развода. Обманули нас!
Гадко было на работе в этот день в наших мехмастерских. От станка к станку ходили
ребята, сидели и обсуждали — как, что вчера произошло; и до каких же пор мы будем вот
так всё ишачить и терпеть. А разве можно не терпеть? — возражали давние лагерники,
согнувшиеся навек. — А разве кого–нибудь когда–нибудь не сломили? (Это была философия
набора 37–го года.)
Когда мы пришли с работы в темноте, зона лагпункта опять была пуста. Но гонцы