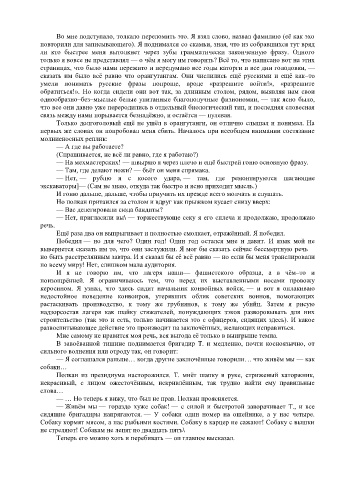Page 737 - Архипелаг ГУЛаг
P. 737
Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слово, назвал фамилию (её как эхо
повторили для записывающего). Я поднимался со скамьи, зная, что из собравшихся тут вряд
ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. Одного
только я вовсе не представлял — о чём я могу им говорить? Всё то, что написано вот на этих
страницах, что было нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки, —
сказать им было всё равно что орангутангам. Они числились ещё русскими и ещё как–то
умели понимать русские фразы попроще, вроде «разрешите войти!», «разрешите
обратиться!». Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя нам свои
однообразно–без–мыслые белые упитанные благополучные физиономии, — так ясно было,
что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя словесная
связь между нами порывается безнадёжно, и остаётся — пулевая.
Только долгоголовый ещё не ушёл в орангутанги, он отлично слышал и понимал. На
первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание
молниеносных реплик:
— А где вы работаете?
(Спрашивается, не всё ли равно, где я работаю?)
— На мехмастерских! — швыряю я через плечо и ещё быстрей гоню основную фразу.
— Там, где делают ножи? — бьёт он меня спрямака.
— Нет, — рублю я с косого удара, — там, где ремонтируются шагающие
экскаваторы]— (Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль.)
И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать.
Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх:
— Вас делегировали сюда бандиты?
— Нет, пригласили вы\ — торжествующе секу я его сплеча и продолжаю, продолжаю
речь.
Ещё раза два он выпрыгивает и полностью смолкает, отражённый. Я победил.
Победил — но для чего? Один год! Один год остался мне и давит. И язык мой не
вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь—
но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы её всё равно — но если бы меня транслировали
по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.
И я не говорю им, что лагеря наши— фашистского образца, а в чём–то и
поизощрённей. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу
керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск, — и вот я оплакиваю
недостойное поведение конвоиров, утерявших облик советских воинов, помогающих
растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую
надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих зэков разворовывать для них
строительство (так это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь). И какое
развоспитывающее действие это производит на заключённых, желающих исправиться.
Мне самому не нравится моя речь, вся выгода её только в выигрыше темпа.
В завоёванной тишине поднимается бригадир Т. и медленно, почти косноязычно, от
сильного волнения или отроду так, он говорит:
— Я соглашался раньше… когда другие заключённые говорили. .. что живём мы — как
собаки…
Полкан из президиума насторожился. Т. мнёт шапку в руке, стриженый каторжник,
некрасивый, с лицом ожесточённым, искривлённым, так трудно найти ему правильные
слова…
— … Но теперь я вижу, что был не прав. Полкан проясняется.
— Живём мы — гораздо хуже собак! — с силой и быстротой заворачивает Т., и все
сидящие бригадиры напрягаются. — У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре.
Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают! Собаку с вышки
не стреляют! Собакам не лепят по двадцать пятъ\
Теперь его можно хоть и перебивать — он главное высказал.