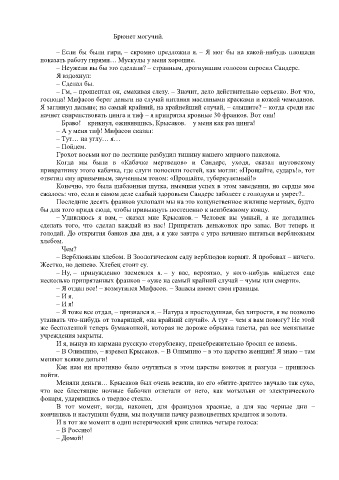Page 386 - Рассказы
P. 386
Брюнет могучий.
– Если бы были гири, – скромно предложил я. – Я мог бы на какой-нибудь площади
показать работу гирями… Мускулы у меня хорошие.
– Неужели вы бы это сделали? – странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.
Я вздохнул:
– Сделал бы.
– Гм, – прошептал он, смахивая слезу. – Значит, дело действительно серьезно. Вот что,
господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов.
Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайнейший случай, – слышите? – когда среди нас
начнет свирепствовать цинга и тиф – я припрятал кровные 30 франков. Вот они!
– Браво! – крикнул, оживившись, Крысаков. – у меня как раз цинга!
– А у меня тиф! Мифасов сказал:
– Тут… на углу… я…
– Пойдем.
Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.
Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому
привратнику этого кабачка, где слуги поносили гостей, как могли: «Прощайте, сударь!», тот
ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»
Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое
сжалось: что, если в самом деле слабый здоровьем Сандерс заболеет с голодухи и умрет?..
Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто
бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.
– Удивляюсь я вам, – сказал мне Крысаков. – Человек вы умный, а не догадались
сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и
голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим
хлебом.
– Чем?
– Верблюжьим хлебом. В Зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал – ничего.
Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.
– Ну, – принужденно засмеялся я. – у вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще
несколько припрятанных франков – «уже на самый крайний случай – чумы или смерти».
– Я отдал все! – возмутился Мифасов. – Запасы имеют свои границы.
– И я.
– И я!
– Я тоже все отдал, – признался я. – Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю
утаивать что-нибудь от товарищей, «на крайний случай». А тут – чем я вам помогу? Не этой
же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные
учреждения закрыты.
И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.
– В Олимпию, – взревел Крысаков. – В Олимпию – в это царство женщин! Я знаю – там
меняют всякие деньги!
Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула – пришлось
пойти.
Меняли деньги… Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо,
что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического
фонаря, ударившись о твердое стекло.
В тот момент, когда, наконец, для французов красные, а для нас черные дни –
кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.
И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:
– В Россию!
– Домой!