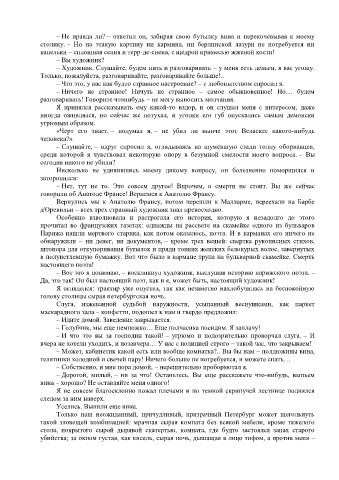Page 428 - Рассказы
P. 428
– Не правда ли? – ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему
столику. – Но на этакую картину ни кармина, ни берлинской лазури не потребуется ни
капельки – сплошная сепия и терр-де-сиена, с щедрой примесью жженой кости!
– Вы художник?
– Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать – у меня есть деньги, я вас угощу.
Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше!..
– Что это, у вас как будто странное настроение? – с любопытством спросил я.
– Ничего не странное! Ничуть не странное – самое обыкновенное! Но… будем
разговаривать! Говорите чтонибудь – не могу выносить молчания.
Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже
иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски
угрюмым образом.
«Черт его знает, – подумал я, – не убил ли нынче этот Веласкес какого-нибудь
человека?»
– Слушайте, – вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев,
среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса. – Вы
сегодня никого не убили?
Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и
заторопился:
– Нет, тут не то. Это совсем другое! Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас
говорили об Анатоле Франсе! Вернемся к Анатолю Франсу.
Вернулись мы к Анатолю Франсу, потом перешли к Малларме, переехали на Барбе
д'Оревильи – всех трех странный художник знал превосходно.
Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого
прочитал во французских газетах: однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров
Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта. И в карманах его ничего не
обнаружили – ни денег, ни документов, – кроме трех вещей: свертка рукописных стихов,
штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых
в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть
настоящего поэта!
– Вот это я понимаю, – воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта. –
Да, это так! Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник!
Я огляделся: трактир уже опустел, так как незаметно нахлобучилась на беспокойную
голову столицы сырая петербургская ночь.
Слуга, изжеванной судьбой наружности, усыпанный веснушками, как паркет
маскарадного зала – конфетти, подошел к нам и твердо предложил:
– Идите домой. Заведение закрывается.
– Голубчик, мы еще немножко… Еще полчасика посидим. Я заплачу!
– И что это вы за господин такой! – угрюмо и подозрительно проворчал слуга. – И
вчера не хотели уходить, и позавчера… У нас с полицией строго – такой час, что закрываем!
– Может, кабинетик какой есть или вообще комнатка?.. Вы бы нам – полдюжины вина,
телятинки холодной и свечей пару! Ничего больше не потребуется, и можете спать…
– Собственно, и мне пора домой, – нерешительно пробормотал я.
– Дорогой, милый, – ни за что! Останьтесь. Вы еще расскажете что-нибудь, выпьем
вина – хорошо? Не оставляйте меня одного!
Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся
следом за ним наверх.
Уселись. Выпили еще вина.
Только наш неожиданный, причудливый, призрачный Петербург может щегольнуть
такой зловещей комбинацией: мрачная сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого
стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, где будто застоялся запах старого
убийства; за окном густая, как кисель, сырая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня –