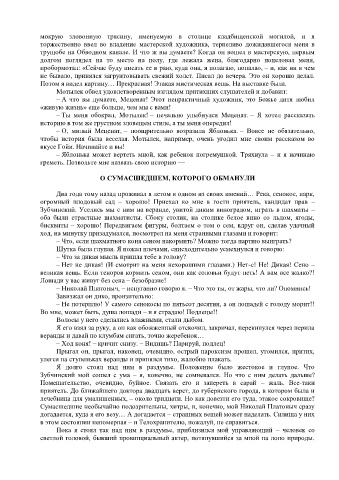Page 430 - Рассказы
P. 430
мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я
торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в
трущобе на Обводном канале. И что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым
долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня,
пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала», – и, как ни в чем
не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал.
Потом я видел картину… Прекрасная! Этакая мистическая вещь. На выставке была.
Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил:
– А что вы думаете, Меценат! Этот непрактичный художник, это Божье дитя любил
«живую жизнь» еще больше, чем мы с вами!
– Ты меня обокрал, Мотылек! – печально улыбнулся Меценат. – Я хотел рассказать
историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил!
– О, милый Меценат, – поощрительно возразила Яблонька. – Вовсе не обязательно,
чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во
вкусе Гойи. Начинайте и вы!
– Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула – и я начинаю
греметь. Позвольте мне назвать свою историю —
О СУМАСШЕДШЕМ, КОТОРОГО ОБМАНУЛИ
Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений… Река, сенокос, парк,
огромный плодовый сад – хорошо! Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав –
Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы –
оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды,
бисквиты – хорошо! Передвигаем фигуры, болтаем о том о сем, вдруг он, сделав удачный
ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит:
– Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?
Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю:
– Что за дикая мысль пришла тебе в голову?
– Нет не дикая! (И смотрит на меня нехорошими глазами.) Нет-с! Не! Дикая! Сено –
великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь! А вам все жалко?!
Лошади у вас живут без сена – безобразие!
– Николай Платоныч, – испуганно говорю я. – Что это ты, от жары, что ли? Опомнись!
Завизжал он дико, пронзительно:
– Не потерплю! У самого сенокосы по пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит!!
Во мне, может быть, душа лошади – и я страдаю! Подлецы!!
Волосы у него сделались влажными, стали дыбом.
Я его взял за руку, а он как обожженный отскочил, закричал, перекинулся через перила
веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок…
– Ход коня! – кричит снизу. – Видишь? Парируй, подлец!
Прыгал он, прыгал, наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих,
улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать.
Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что
Зубчинский мой сошел с ума – я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше?
Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай – жаль. Все-таки
приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и
лечебница для умалишенных, – около тридцати. Но как довезти его туда, этакое сокровище?
Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу
догадается, куда я его везу… А догадается – страшных вещей может наделать. Силища у них
в этом состоянии непомерная – и Телохранителю, пожалуй, не справиться.
Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий – человек со
светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы.