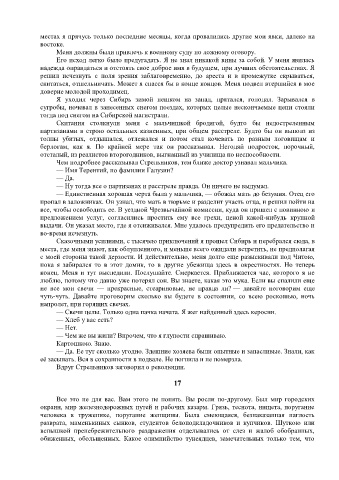Page 265 - Доктор Живаго
P. 265
местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки, далеко на
востоке.
Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору.
Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась
надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я
решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться,
скитаться, отшельничать. Может я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое
доверие молодой проходимец.
Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал. Зарывался в
сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли
тогда под снегом на Сибирской магистрали.
Скитания столкнули меня с мальчишкой бродягой, будто бы недостреленным
партизанами в строю остальных казненных, при общем расстреле. Будто бы он выполз из
толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и
берлогам, как я. По крайней мере так он рассказывал. Негодяй подросток, порочный,
отсталый, из реалистов второгодников, выгнанный из училища по неспособности.
Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика.
— Имя Терентий, по фамилии Галузин?
— Да.
— Ну тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал.
— Единственная хорошая черта была у мальчика, — обожал мать до безумия. Отец его
пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на
все, чтобы освободить ее. В уездной Чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинною и
предложением услуг, согласились простить ему все грехи, ценой какой-нибудь крупной
выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и
во-время исчезнуть.
Сказочными усилиями, с тысячею приключений я прошел Сибирь и перебрался сюда, в
места, где меня знают, как облупленного, и меньше всего ожидали встретить, не предполагая
с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читою,
пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь
конец. Меня и тут выследили. Послушайте. Смеркается. Приближается час, которого я не
люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще
не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще
чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь
напролет, при горящих свечах.
— Свечи целы. Только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.
— Хлеб у вас есть?
— Нет.
— Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю.
Картошкою. Знаю.
— Да. Ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как
её засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не погнила и не померзла.
Вдруг Стрельников заговорил о революции.
17
Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских
окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание
человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость
разврата, маменькиных сынков, студентов белоподкладочников и купчиков. Шуткою или
вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных,
обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что