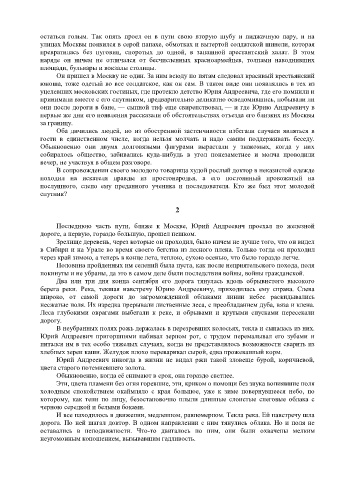Page 269 - Доктор Живаго
P. 269
остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на
улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая
превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом
наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнивших
площади, бульвары и вокзалы столицы.
Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский
юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из
уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и
принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли
они после дороги в бане, — сыпной тиф еще свирепствовал, — и где Юрию Андреевичу в
первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы
за границу.
Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в
гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу.
Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них
собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили
вечер, не участвуя в общем разговоре.
В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одежде
походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый на
послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой
спутник?
2
Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной
дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком.
Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел
в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил
через край зимою, а теперь в конце лета, теплою, сухою осенью, что было гораздо легче.
Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля
покинуты и не убраны, да это в самом деле были последствия войны, войны гражданской.
Два или три дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого
берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева
широко, от самой дороги до загроможденной облаками линии небес раскидывались
несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса, с преобладанием дуба, вяза и клена.
Леса глубокими оврагами выбегали к реке, и обрывами и крутыми спусками пересекали
дорогу.
В неубранных полях рожь держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них.
Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и
питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из
хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм.
Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой,
цвета старого потемневшего золота.
Обыкновенно, когда её снимают в срок, она гораздо светлее.
Эти, цвета пламени без огня горевшие, эти, криком о помощи без звука вопиявшие поля
холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по
которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с
черною середкой и белыми боками.
И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей навстречу шла
дорога. По ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поля не
оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним, они были охвачены мелким
неугомонным копошением, вызывавшим гадливость.