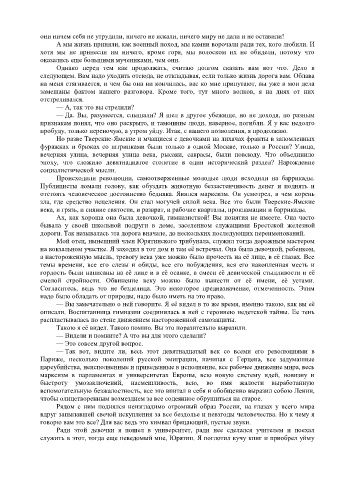Page 266 - Доктор Живаго
P. 266
они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили!
А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И
хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что
оказались еще большими мучениками, чем они.
Однако перед тем как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в
следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава
на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела
замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков, я на днях от них
отстреливался.
— А, так это вы стреляли?
— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но не доходя, по разным
признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго
пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю.
Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных
фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица,
вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединило
эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение
социалистической мысли.
Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады.
Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и
отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень
зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские
века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.
Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не имеете. Она часто
бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной
дороги. Так называлась эта дорога вначале, до нескольких последующих переименований.
Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером
на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там её встречал. Она была девочкой, ребенком,
а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на её лице, в её глазах. Все
темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и
гордость были написаны на её лице и в её осанке, в смеси её девической стыдливости и её
смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от её имени, её устами.
Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим
надо было обладать от природы, надо было иметь на это право.
— Вы замечательно о ней говорите. Я её видел в то же время, именно такою, как вы её
описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень
распластывалась по стене движением настороженной самозащиты.
Такою я её видел. Такою помню. Вы это поразительно выразили.
— Видели и помните? А что вы для этого сделали?
— Это совсем другой вопрос.
— Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в
Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные
цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь
марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и
быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости выработанную
вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин,
чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.
Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира
вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я
говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки.
Ради этой девочки я пошел в университет, ради нее сделался учителем и поехал
служить в этот, тогда еще неведомый мне, Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму