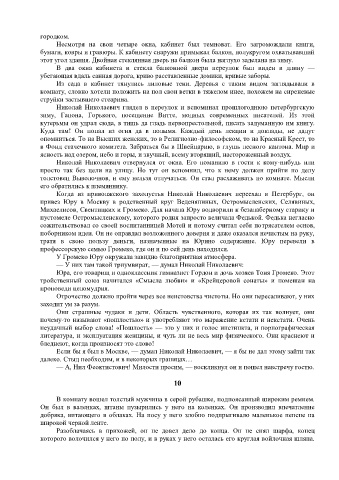Page 29 - Доктор Живаго
P. 29
городком.
Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги,
бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший
этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.
В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину —
убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.
Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в
комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые
струйки застывшего стеарина.
Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую
зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой
кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу.
Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут
опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то
в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и
ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.
Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или
просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу
толстовец Выволочнов, и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли
его обратились к племяннику.
Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он
привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных,
Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и
пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно
сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ,
поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку,
тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в
профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.
У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.
— У них там такой триумвират, — думал Николай Николаевич:
Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот
тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на
проповеди целомудрия.
Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них
заходит ум за разум.
Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они
почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень
неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта, и порнографическая
литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и
бледнеют, когда произносят это слово!
Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так
далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах…
— А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю.
10
В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем.
Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление
добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на
широкой черной ленте.
Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец
которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа.