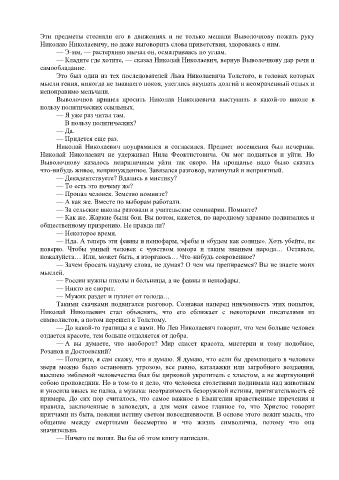Page 30 - Доктор Живаго
P. 30
Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку
Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.
— Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.
— Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и
самообладание.
Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых
мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и
непоправимо мельчали.
Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в
пользу политических ссыльных.
— Я уже раз читал там.
— В пользу политических?
— Да.
— Придется еще раз.
Николай Николаевич поупрямился и согласился. Предмет посещения был исчерпан.
Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но
Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать
что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.
— Декадентствуете? Вдались в мистику?
— То есть это почему же?
— Пропал человек. Земство помните?
— А как же. Вместе по выборам работали.
— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?
— Как же. Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравию подвизались и
общественному призрению. Не правда ли?
— Некоторое время.
— Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не
поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа… Оставьте,
пожалуйста… Или, может быть, я вторгаюсь… Что-нибудь сокровенное?
— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих
мыслей.
— России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.
— Никто не спорит.
— Мужик раздет и пухнет от голода…
Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток,
Николай Николаевич стал объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из
символистов, а потом перешел к Толстому.
— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек
отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.
— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное,
Розанов и Достоевский?
— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке
зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния,
высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий
собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным
и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность её
примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и
правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит
притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что
общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она
значительна.
— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.