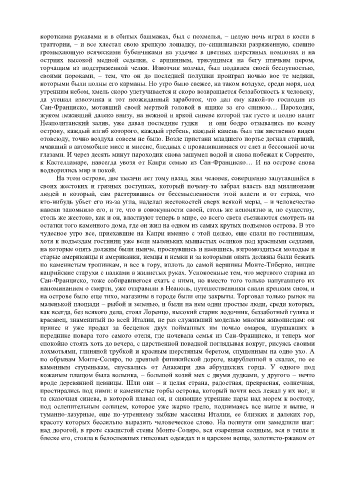Page 10 - Господин из Сан-Франциско
P. 10
короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, – целую ночь играл в кости в
траттории, – и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилиански разряженную, спешно
громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на
остриях высокой медной седелки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером,
торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью,
своими пороками, – тем, что он до последней полушки проиграл ночью вое те медяки,
которыми были полны его карманы. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под
утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку,
да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из
Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною… Пароходик,
жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве которой так густо и полно налит
Неаполитанский залив, уже давал последние гудки – и они бодро отзывались по всему
острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден
отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший,
мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных с провалившимися от слез и бессонной ночи
глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто,
к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско… И на острове снова
водворились мир и покой.
На этом острове, две тысячи лет тому назад, жил человек, совершенно запутавшийся в
своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами
людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что
кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры, – и человечество
навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей, столь же непонятно и, по существу,
столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на
остатки того каменного дома, где он жил на одном из самых крутых подъемов острова. В это
чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам,
хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами,
на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и
старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать
по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие
каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокоенные тем, что мертвого старика из
Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их
напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и
на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на
маленькой площади – рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых,
как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и
красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он
принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в
переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог
спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими
лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А
по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее
каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца. У одного под
кожаным плащом была волынка, – большой козий мех с двумя дудками, у другого – нечто
вроде деревянной цевницы. Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная,
простирались под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и
та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку,
под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и
туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор,
красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг:
над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и
блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от