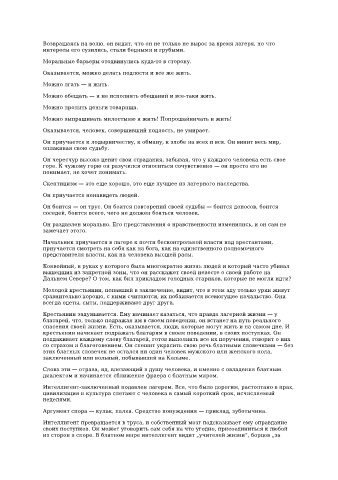Page 101 - Колымские рассказы
P. 101
Возвращаясь на волю, он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что
интересы его сузились, стали бедными и грубыми.
Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.
Оказывается, можно делать подлости и все же жить.
Можно лгать — и жить.
Можно обещать — и не исполнять обещаний и все-таки жить.
Можно пропить деньги товарища.
Можно выпрашивать милостыню и жить! Попрошайничать и жить!
Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает.
Он приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир,
оплакивая свою судьбу.
Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое
горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не
понимает, не хочет понимать.
Скептицизм — это еще хорошо, это еще лучшее из лагерного наследства.
Он приучается ненавидеть людей.
Он боится — он трус. Он боится повторений своей судьбы — боится доносов, боится
соседей, боится всего, чего не должен бояться человек.
Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не
замечает этого.
Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами,
приучается смотреть на себя как на бога, как на единственного полномочного
представителя власти, как на человека высшей расы.
Конвойный, в руках у которого была многократно жизнь людей и который часто убивал
вышедших из запретной зоны, что он расскажет своей невесте о своей работе на
Дальнем Севере? О том, как бил прикладом голодных стариков, которые не могли идти?
Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут
сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они
всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга.
Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни — у
блатарей, что, только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального
спасения своей жизни. Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом дне. И
крестьянин начинает подражать блатарям в своем поведении, в своих поступках. Он
поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них
со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками — без
этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола,
заключенный или вольный, побывавший на Колыме.
Слова эти — отрава, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным
диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром.
Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах,
цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый
неделями.
Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения — приклад, зуботычина.
Интеллигент превращается в труса, и собственный мозг подсказывает ему оправдание
своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой
из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит „учителей жизни“, борцов „за