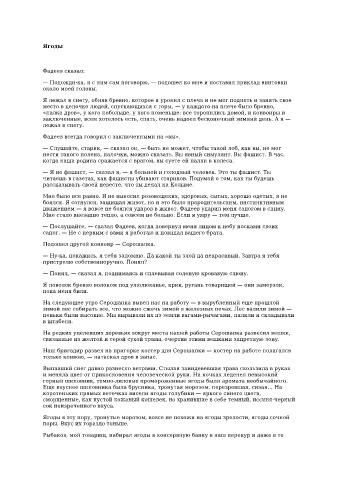Page 36 - Колымские рассказы
P. 36
Ягоды
Фадеев сказал:
— Подожди-ка, я с ним сам поговорю, — подошел ко мне и поставил приклад винтовки
около моей головы.
Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое
место в цепочке людей, спускающихся с горы, — у каждого на плече было бревно,
«палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и
заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я —
лежал в снегу.
Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».
— Слушайте, старик, — сказал он, — быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог
нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час,
когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.
— Я не фашист, — сказал я, — я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты
читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь
рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.
Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не
боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным
движением — я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину.
Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше.
— Послушайте, — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих
сапог. — Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.
Подошел другой конвоир — Серошапка.
— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя
пристрелю собственноручно. Понял?
— Понял, — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.
Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей — они замерзли,
пока меня били.
На следующее утро Серошапка вывел нас на работу — в вырубленный еще прошлой
зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой —
пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали
в штабеля.
На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки,
связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.
Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки — костер на работе полагался
только конвою, — натаскал дров в запас.
Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках
и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий
горный шиповник, темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного.
Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая… На
коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики — яркого синего цвета,
сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный
сок неизреченного вкуса.
Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной
поры. Вкус их гораздо тоньше.
Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те