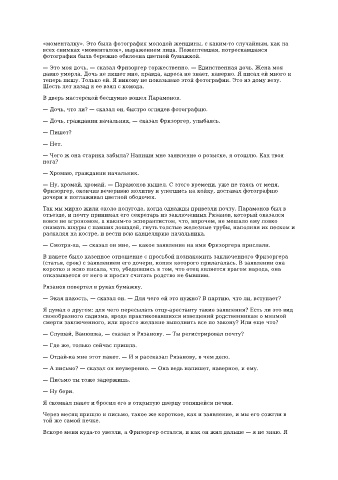Page 34 - Колымские рассказы
P. 34
«моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на
всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся
фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.
— Это моя дочь, — сказал Фризоргер торжественно. — Единственная дочь. Жена моя
давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и
теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу.
Шесть лет назад я ее взял с комода.
В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.
— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.
— Дочь, гражданин начальник, — сказал Фризоргер, улыбаясь.
— Пишет?
— Нет.
— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя
нога?
— Хромаю, гражданин начальник.
— Ну, хромай, хромай. — Парамонов вышел. С этого времени, уже не таясь от меня,
Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию
дочери и поглаживал цветной ободочек.
Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в
отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался
вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко
снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и
раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.
— Смотри-ка, — сказал он мне, — какое заявление на имя Фризоргера прислали.
В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера
(статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она
коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она
отказывается от него и просит считать родство не бывшим.
Рязанов повертел в руках бумажку.
— Экая пакость, — сказал он. — Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?
Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид
своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой
смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?
— Слушай, Ванюшка, — сказал я Рязанову. — Ты регистрировал почту?
— Где же, только сейчас пришла.
— Отдай-ка мне этот пакет. — И я рассказал Рязанову, в чем дело.
— А письмо? — сказал он неуверенно. — Она ведь напишет, наверное, и ему.
— Письмо ты тоже задержишь.
— Ну бери.
Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.
Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в
той же самой печке.
Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я