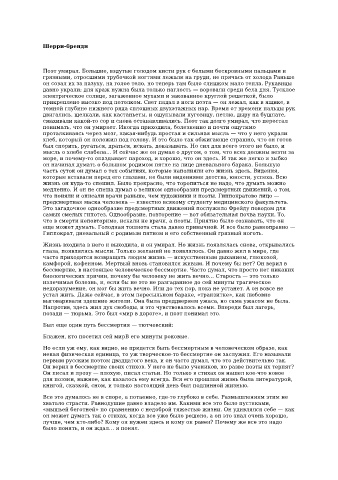Page 41 - Колымские рассказы
P. 41
Шерри-бренди
Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и
грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода Раньше
он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы
давно украли; для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое
электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было
прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в
темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук
двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате,
смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал
понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо
проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли
хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов
был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и
мысль о хлебе слабела… И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за
море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко
он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую
часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения,
которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю
жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно
медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том,
что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо —
предсмертная маска человека — известно всякому студенту медицинского факультета.
Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для
самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То,
что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он
еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно —
Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.
Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались
глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где
часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой,
камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в
бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких
биологических причин, почему бы человеку не жить вечно… Старость — это только
излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое
недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не
устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно
выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была.
Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь,
позади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.
Был еще один путь бессмертия — тютчевский:
Блажен, кто посетил сей мирВ его минуты роковые.
Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как
некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли
первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так.
Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят?
Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое
для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой,
книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.
Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не
хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками,
«мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе — как
он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо,
лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо
было понять, и он ждал… и понял.