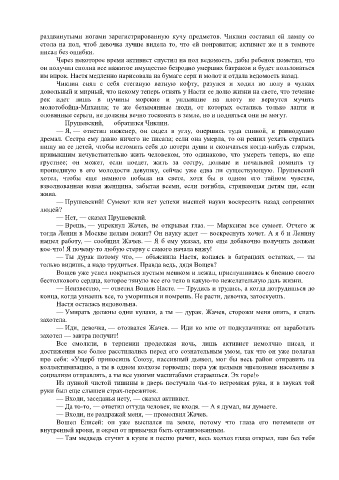Page 54 - Котлован
P. 54
раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чиклин составил ей лампу со
стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что ей понравится; активист же и в темноте
писал без ошибки.
Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что
он получил сполна все нажитое имущество безродно умерших батраков и будет пользоваться
им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад.
Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по полу в чулках
довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение
рек идет лишь в пучины морские и уплывшие на плоту не вернутся мучить
молотобойца-Михаила; те же безымянные люди, от которых остались только лапти и
оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и подняться они не могут.
— Прушевский, — обратился Чиклин.
— Я, — ответил инженер, он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно
дремал. Сестра ему давно ничего не писала; если она умерла, то он решил уехать стряпать
пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым,
привыкшим нечувствительно жить человеком, это одинаково, что умереть теперь, но еще
грустнее; он может, если поедет, жить за сестру, дольше и печальней помнить ту
прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский
хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве,
взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если
жива.
— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших
людей?
— Нет, — сказал Прушевский.
— Врешь, — упрекнул Жачев, не открывая глаз. — Марксизм все сумеет. Отчего ж
тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину
нашел работу, — сообщил Жачев. — Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен
кое-что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!
— Ты дурак потому что, — объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках, — ты
только видишь, а надо трудиться. Правда ведь, дядя Вощев?
Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислушиваясь к биению своего
бестолкового сердца, которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни.
— Неизвестно, — ответил Вощев Насте. — Трудись и трудись, а когда дотрудишься до
конца, когда узнаешь все, то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь.
Настя осталась недовольна.
— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев, сторожи меня опять, я спать
захотела.
— Иди, девочка, — отозвался Жачев. — Иди ко мне от подкулачника: он заработать
захотел — завтра получит!
Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолчно писал, и
достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал
про себя: «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на
коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уж целыми эшелонами население в
социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх горе!»
Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той
руки был еще слышен страх-пережиток.
— Входи, заседанья нету, — сказал активист.
— Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя. — А я думал, вы думаете.
— Входи, не раздражай меня, — промолвил Жачев.
Вошел Елисей: он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от
внутренней крови, и окреп от привычки быть организованным.
— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь колхоз глаза открыл, нам без тебя