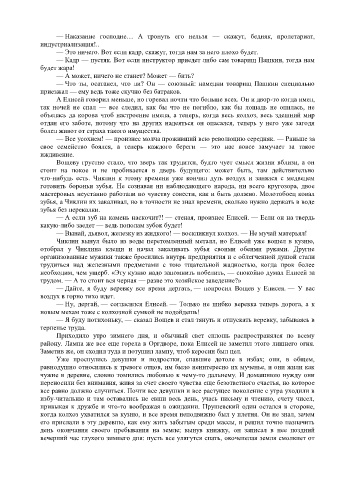Page 56 - Котлован
P. 56
— Наказание господне… А тронуть его нельзя — скажут, бедняк, пролетариат,
индустриализация!..
— Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за него плохо будет.
— Кадр — пустяк. Вот если инструктор приедет либо сам товарищ Пашкин, тогда нам
будет жара!
— А может, ничего не станет? Может — бить?
— Что ты, осатанел, что ли? Он — союзный: намедни товарищ Пашкин специально
приезжал — ему ведь тоже скучно без батраков.
А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда имел,
так ночей не спал — все следил, как бы что не погибло, как бы лошадь не опилась, не
объелась да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний мир
отдан его заботе, потому что на других надеяться он опасался, теперь у него уже загодя
болел живот от страха такого имущества.
— Все усохнем! — произнес молча проживший всю революцию середняк. — Раньше за
свое семейство боялся, а теперь каждого береги — это нас вовсе замучает за такое
иждивение.
Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто чует смысл жизни вблизи, а он
стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, там действительно
что-нибудь есть. Чиклин к этому времени уже кончил дуть воздух и занялся с медведем
готовить бороньи зубья. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора, двое
мастеровых неустанно работали по чувству совести, как и быть должно. Молотобоец ковал
зубья, а Чиклин их закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде
зубья без перекалки.
— А если зуб на камень наскочит?! — стеная, произнес Елисей. — Если он на твердь
какую-либо заедет — ведь пополам зубок будет!
— Вынай, дьявол, железку из жидкого! — воскликнул колхоз. — Не мучай матерьял!
Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже вошел в кузню,
отобрал у Чиклина клещи и начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие
организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали
трудиться над железными предметами с тою тщательной жадностью, когда прок более
необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запомнить побелить, — спокойно думал Елисей за
трудом. — А то стоит вся черная — разве это хозяйское заведение?»
— Дайте, я буду веревку все время дергать, — попросил Вощев у Елисея. — У вас
воздух в горно тихо идет.
— Ну, дергай, — согласился Елисей. — Только не шибко веревка теперь дорога, а к
новым мехам тоже с колхозной сумкой не подойдешь!
— Я буду потихоньку, — сказал Вощев и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в
терпенье труда.
Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему
району. Лампа же все еще горела в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня.
Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел.
Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле в избах; они, в общем,
равнодушно относились к тревоге отцов, им было неинтересно их мученье, и они жили как
чужие в деревне, словно томились любовью к чему-то дальнему. И домашнюю нужду они
переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответного счастья, но которое
все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходили в
избу-читальню и там оставались не евши весь день, учась письму и чтению, счету чисел,
привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушевский один остался в стороне,
когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был у плетня. Он не знал, зачем
его прислали в эту деревню, как ему жить забытым среди массы, и решил точно назначить
день окончания своего пребывания на земле; вынув книжку, он записал в нее поздний
вечерний час глухого зимнего дня: пусть все улягутся спать, окоченелая земля смолкнет от