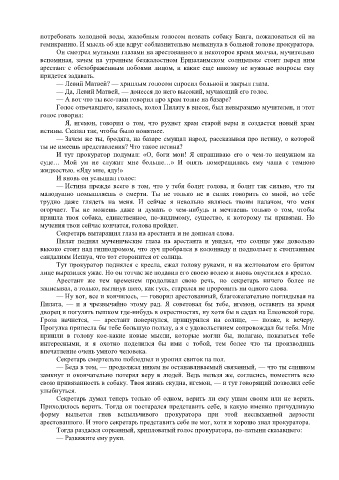Page 11 - Мастер и Маргарита
P. 11
потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на
гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.
Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно
вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Ершалаимском солнцепеке стоит перед ним
арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему
придется задавать.
— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.
— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.
— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот
голос говорил:
— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм
истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой
ты не имеешь представления? Что такое истина?
И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на
суде… Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темною
жидкостью. «Яду мне, яду!»
И вновь он услышал голос:
— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты
малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе
трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня
огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы
пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но
мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.
Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.
Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно
высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным
сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.
Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом
лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в кресло.
Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не
записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.
— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на
Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время
дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе.
Гроза начнется, — арестант повернулся, прищурился на солнце, — позже, к вечеру.
Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне
пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе
интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь
впечатление очень умного человека.
Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.
— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком
замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю
свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе
улыбнуться.
Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить.
Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую
форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости
арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.
Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:
— Развяжите ему руки.