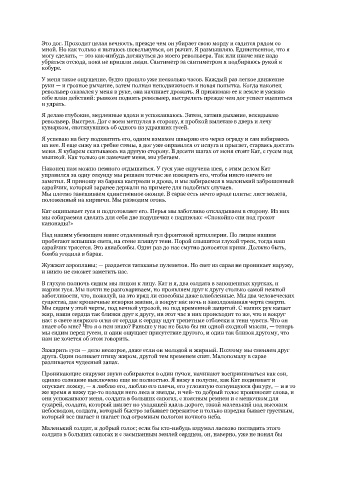Page 37 - На западном фронте без перемен
P. 37
Это дог. Проходит целая вечность, прежде чем он убирает свою морду и садится рядом со
мной. Но как только я пытаюсь шевельнуться, он рычит. Я размышляю. Единственное, что я
могу сделать, — это как-нибудь дотянуться до моего револьвера. Так или иначе мне надо
убраться отсюда, пока не пришли люди. Сантиметр за сантиметром я подбираюсь рукой к
кобуре.
У меня такое ощущение, будто прошло уже несколько часов. Каждый раз легкое движение
руки — и грозное рычание, затем полная неподвижность и новая попытка. Когда наконец
револьвер оказался у меня в руке, она начинает дрожать. Я прижимаю ее к земле и уясняю
себе план действий: рывком поднять револьвер, выстрелить прежде чем дог успеет вцепиться
и удрать.
Я делаю глубокие, медленные вдохи и успокаиваюсь. Затем, затаив дыхание, вскидываю
револьвер. Выстрел. Дог с воем метнулся в сторону, я пробкой вылетаю в дверь и лечу
кувырком, споткнувшись об одного из удравших гусей.
Я успеваю на бегу подхватить его, одним взмахом швыряю его через ограду и сам взбираюсь
на нее. Я еще сижу на гребне стены, а дог уже оправился от испуга и прыгает, стараясь достать
меня. Я кубарем скатываюсь на другую сторону. В десяти шагах от меня стоит Кат, с гусем под
мышкой. Как только он замечает меня, мы убегаем.
Наконец нам можно немного отдышаться. У гуся уже скручена шея, с этим делом Кат
управился за одну секунду мы решаем тотчас же изжарить его, чтобы никто ничего не
заметил. Я приношу из барака кастрюли и дрова, и мы забираемся в маленький заброшенный
сарайчик, который заранее держали на примете для подобных случаев.
Мы плотно завешиваем единственное оконце. В сарае есть нечто вроде плиты: лист железа,
положенный на кирпичи. Мы разводим огонь.
Кат ощипывает гуся и подготовляет его. Перья мы заботливо откладываем в сторону. Из них
мы собираемся сделать для себя две подушечки с надписью: «Спокойно спи под грохот
канонады!»
Над нашим убежищем навис отдаленный гул фронтовой артиллерии. По лицам нашим
пробегают вспышки света, на стене пляшут тени. Порой слышится глухой треск, тогда наш
сарайчик трясется. Это авиабомбы. Один раз до нас смутно доносятся крики. Должно быть,
бомба угодила в барак.
Жужжат аэропланы; — раздается татаканье пулеметов. Но свет из сарая не проникает наружу,
и никто не сможет заметить нас.
В глухую полночь сидим мы лицом к лицу. Кат и я, два солдата в заношенных куртках, и
жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но проявляем друг к другу столько самой нежной
заботливости, что, пожалуй, на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих
существа, две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта смерти.
Мы сидим у этой черты, под вечной угрозой, но под временной защитой. С наших рук капает
жир, наши сердца так близки друг к другу, ив этот час в них происходит то же, что и вокруг
нас: в свете неяркого огня от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он
знает обо мне? Что я о нем знаю? Раньше у нас не было бы ни одной сходной мысли, — теперь
мы сидим перед гусем, и один ощущает присутствие другого, и один так близок другому, что
нам не хочется об этом говорить.
Зажарить гуся — дело нескорое, даже если он молодой и жирный. Поэтому мы сменяем друг
друга. Один поливает птицу жиром, другой тем временем спит. Малопомалу в сарае
разливается чудесный запах.
Проникающие снаружи звуки собираются в один пучок, начинают восприниматься как сон,
однако сознание выключено еще не полностью. Я вижу в полусне, как Кат поднимает и
опускает ложку, — я люблю его, люблю его плечи, его угловатую согнувшуюся фигуру, — и в то
же время я вижу где-то позади него леса и звезды, и чей- то добрый голос произносит слова, и
они успокаивают меня, солдата в больших сапогах, с поясным ремнем и с мешочком для
сухарей, солдата, который шагает по уходящей вдаль дороге, такой маленький под высоким
небосводом, солдата, который быстро забывает пережитое и только изредка бывает грустным,
который все шагает и шагает под огромным пологом ночного неба.
Маленький солдат, и добрый голос; если бы кто-нибудь вздумал ласково погладить этого
солдата в больших сапогах и с засыпанным землей сердцем, он, наверно, уже не понял бы