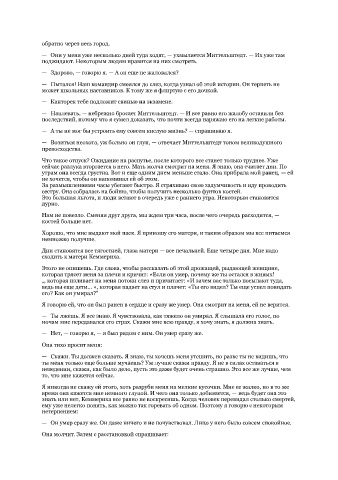Page 67 - На западном фронте без перемен
P. 67
обратно через весь город.
— Они у меня уже несколько дней туда ходят, — ухмыляется Миттельштедт. — Их уже там
поджидают. Некоторым людям нравится на них смотреть.
— Здорово, — говорю я. — А он еще не жаловался?
— Пытался! Наш командир смеялся до слез, когда узнал об этой истории. Он терпеть не
может школьных наставников. К тому же я флиртую с его дочкой.
— Канторек тебе подложит свинью на экзамене.
— Наплевать, — небрежно бросает Миттельштедт. — И все равно его жалобу оставили без
последствий, потому что я сумел доказать, что почти всегда наряжаю его на легкие работы.
— А ты не мог бы устроить ему совсем кислую жизнь? — спрашиваю я.
— Возиться неохота, уж больно он глуп, — отвечает Миттельштедт тоном великодушного
превосходства.
Что такое отпуск? Ожидание на распутье, после которого все станет только труднее. Уже
сейчас разлука вторгается в него. Мать молча смотрит на меня. Я знаю, она считает дни. По
утрам она всегда грустна. Вот и еще одним днем меньше стало. Она прибрала мой ранец, — ей
не хочется, чтобы он напоминал ей об этом.
За размышлениями часы убегают быстро. Я стряхиваю свою задумчивость и иду проводить
сестру. Она собралась на бойню, чтобы получить несколько фунтов костей.
Это большая льгота, и люди встают в очередь уже с раннего утра. Некоторым становится
дурно.
Нам не повезло. Сменяя друг друга, мы ждем три часа, после чего очередь расходится, —
костей больше нет.
Хорошо, что мне выдают мой паек. Я приношу его матери, и таким образом мы все питаемся
немножко получше.
Дни становятся все тягостней, глаза матери — все печальней. Еще четыре дня. Мне надо
сходить к матери Кеммериха.
Этого не опишешь. Где слова, чтобы рассказать об этой дрожащей, рыдающей женщине,
которая трясет меня за плечи и кричит: «Если он умер, почему же ты остался в живых!
„, которая изливает на меня потоки слез и причитает: «И зачем вас только посылают туда,
ведь вы еще дети... «, которая падает на стул и плачет: «Ты его видел? Ты еще успел повидать
его? Как он умирал?"
Я говорю ей, что он был ранен в сердце и сразу же умер. Она смотрит на меня, ей не верится.
— Ты лжешь. Я все знаю. Я чувствовала, как тяжело он умирал. Я слышала его голос, по
ночам мне передавался его страх. Скажи мне всю правду, я хочу знать, я должна знать.
— Нет, — говорю я, — я был рядом с ним. Он умер сразу же.
Она тихо просит меня:
— Скажи. Ты должен сказать. Я знаю, ты хочешь меня утешить, но разве ты не видишь, что
ты меня только еще больше мучаешь? Уж лучше скажи правду. Я не в силах оставаться в
неведении, скажи, как было дело, пусть это даже будет очень страшно. Это все же лучше, чем
то, что мне кажется сейчас.
Я никогда не скажу ей этого, хоть разруби меня на мелкие кусочки. Мне ее жалко, но в то же
время она кажется мне немного глупой. И чего она только добивается, — ведь будет она это
знать или нет, Кеммериха все равно не воскресишь. Когда человек перевидал столько смертей,
ему уже нелегко понять, как можно так горевать об одном. Поэтому я говорю с некоторым
нетерпением:
— Он умер сразу же. Он даже ничего и не почувствовал. Лицо у него было совсем спокойное.
Она молчит. Затем с расстановкой спрашивает: