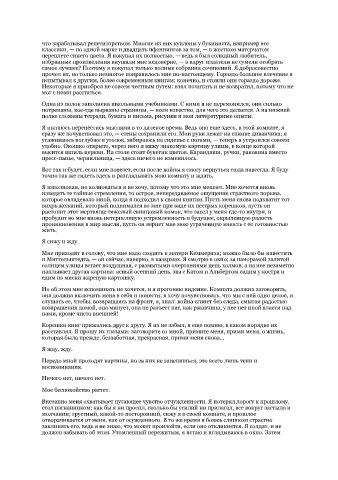Page 64 - На западном фронте без перемен
P. 64
что зарабатывал репетиторством. Многие из них куплены у букиниста, например все
классики, — по одной марке и двадцать пфеннингов за том, — в жестком матерчатом
переплете синего цвета. Я покупал их полностью, — ведь я был солидный любитель,
избранные произведения внушали мне недоверие, — а вдруг издатели не сумели отобрать
самое лучшее? Поэтому я покупал только полные собрания сочинений. Я добросовестно
прочел их, но только немногое понравилось мне по-настоящему. Гораздо большее влечение я
испытывал к другим, более современным книгам; конечно, и стоили они гораздо дороже.
Некоторые я приобрел не совсем честным путем: взял почитать и не возвратил, потому что не
мог с ними расстаться.
Одна из полок заполнена школьными учебниками. С ними я не церемонился, они сильно
потрепаны, кое-где вырваны страницы, — всем известно, для чего это делается. А на нижней
полке сложены тетради, бумага и письма, рисунки и мои литературные опыты.
Я пытаюсь перенестись мыслями в то далекое время. Ведь оно еще здесь, в этой комнате, я
сразу же почувствовал это, — стены сохранили его. Мои руки лежат на спинке диванчика; я
усаживаюсь поглубже в уголок, забираюсь на сиденье с ногами, — теперь я устроился совсем
удобно. Окошко открыто, через него я вижу знакомую картину улицы, в конце которой
высится шпиль церкви. На столе стоит букетик цветов. Карандаши, ручки, раковина вместо
пресс-папье, чернильница, — здесь ничего не изменилось.
Вот так и будет, если мне повезет, если после войны я смогу вернуться сюда навсегда. Я буду
точно так же сидеть здесь и разглядывать мою комнату и ждать.
Я взволнован, но волноваться я не хочу, потому что это мне мешает. Мне хочется вновь
изведать те тайные стремления, то острое, непередаваемое ощущение страстного порыва,
которое овладевало мной, когда я подходил к своим книгам. Пусть меня снова подхватит тот
вихрь желаний, который поднимался во мне при виде их пестрых корешков, пусть он
растопит этот мертвяще тяжелый свинцовый комок, что засел у меня где-то внутри, и
пробудит во мне вновь нетерпеливую устремленность в будущее, окрыленную радость
проникновения в мир мысли, пусть он вернет мне мою утраченную юность с ее готовностью
жить.
Я сижу и жду.
Мне приходит в голову, что мне надо сходить к матери Кеммериха; можно было бы навестить
и Миттельштедта, — он сейчас, наверно, в казармах. Я смотрю в окно; за панорамой залитой
солнцем улицы встает воздушная, с размытыми очертаниями цепь холмов, а на нее незаметно
наплывает другая картина: ясный осенний день, мы с Катом и Альбертом сидим у костра и
едим из миски жареную картошку.
Но об этом мне вспоминать не хочется, и я прогоняю видение. Комната должна заговорить,
она должна включить меня в себя и понести; я хочу почувствовать, что мы с ней одно целое, и
слушать ее, чтобы, возвращаясь на фронт, я, знал: война сгинет без следа, смытая радостью
возвращения домой, она минует, она не разъест нас, как ржавчина, у нее нет иной власти над
нами, кроме чисто внешней!
Корешки книг прижались друг к другу. Я их не забыл, я еще помню, в каком порядке их
расставлял. Я прошу их глазами: заговорите со мной, примите меня, прими меня, о жизнь,
которая была прежде, беззаботная, прекрасная, прими меня снова...
Я жду, жду.
Передо мной проходят картины, но за них не зацепишься, это всего лишь тени и
воспоминания.
Ничего нет, ничего нет.
Мое беспокойство растет.
Внезапно меня охватывает пугающее чувство отчужденности. Я потерял дорогу к прошлому,
стал изгнанником; как бы я ни просил, сколько бы усилий ни прилагал, все вокруг застыло в
молчании; грустный, какой-то посторонний, сижу я в своей комнате, и прошлое
отворачивается от меня, как от осужденного. В то же время я боюсь слишком страстно
заклинать его, ведь я не знаю, что может произойти, если оно откликнется. Я солдат, и не
должен забывать об этом. Утомленный пережитым, я встаю и вглядываюсь в окно. Затем