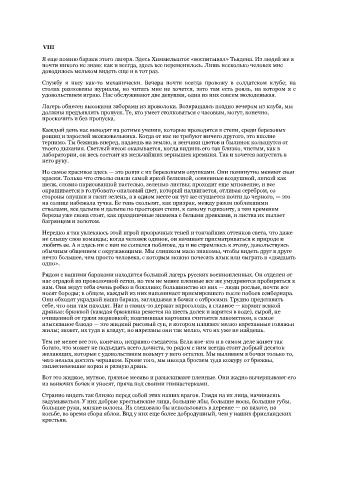Page 70 - На западном фронте без перемен
P. 70
VIII
Я еще помню бараки этого лагеря. Здесь Химмельштос «воспитывал» Тьядена. Из людей же я
почти никого не знаю: как и всегда, здесь все переменилось. Лишь несколько человек мне
доводилось мельком видеть еще и в тот раз.
Службу я несу как-то механически. Вечера почти всегда провожу в солдатском клубе; на
столах разложены журналы, но читать мне не хочется, зато там есть рояль, на котором я с
удовольствием играю. Нас обслуживают две девушки, одна из них совсем молоденькая.
Лагерь обнесен высокими заборами из проволоки. Возвращаясь поздно вечером из клуба, мы
должны предъявлять пропуск. Те, кто умеет столковаться с часовым, могут, конечно,
проскочить и без пропуска.
Каждый день нас выводят на ротные учения, которые проводятся в степи, среди березовых
рощиц и зарослей можжевельника. Когда от нас не требуют ничего другого, это вполне
терпимо. Ты бежишь вперед, падаешь на землю, и венчики цветов и былинок колышутся от
твоего дыхания. Светлый песок оказывается, когда видишь его так близко, чистым, как в
лаборатории, он весь состоит из мельчайших зернышек кремния. Так и хочется запустить в
него руку.
Но самое красивое здесь — это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои
краски. Только что стволы сияли самой яркой белизной, осененные воздушной, легкой как
шелк, словно нарисованной пастелью, зеленью листвы; проходит еще мгновение, и все
окрашивается в голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром, со
стороны опушки и гасит зелень, а в одном месте он тут же сгущается почти до черного, — это
на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, как призрак, между разом поблекшими
стволами, все дальше и дальше по просторам степи, к самому горизонту, а тем временем
березы уже снова стоят, как праздничные знамена с белыми древками, и листва их пылает
багрянцем и золотом.
Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших оттенков света, что даже
не слышу слов команды; когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и
любить ее. А я здесь ни с кем не сошелся поближе, да и не стремлюсь к этому, довольствуясь
обычным общением с окружающими. Мы слишком мало знакомы, чтобы видеть друг в друге
нечто большее, чем просто человека, с которым можно почесать язык или сыграть в «двадцать
одно».
Рядом с нашими бараками находится большой лагерь русских военнопленных. Он отделен от
нас оградой из проволочной сетки, но тем не менее пленные все же умудряются пробираться к
нам. Они ведут себя очень робко и боязливо; большинство из них — люди рослые, почти все
носят бороды; в общем, каждый из них напоминает присмиревшего после побоев сенбернара.
Они обходят украдкой наши бараки, заглядывая в бочки с отбросами. Трудно представить
себе, что они там находят. Нас и самих-то держат впроголодь, а главное — кормят всякой
дрянью: брюквой (каждая брюквина режется на шесть долек и варится в воде), сырой, не
очищенной от грязи морковкой; подгнившая картошка считается лакомством, а самое
изысканное блюдо — это жидкий рисовый суп, в котором плавают мелко нарезанные говяжьи
жилы; может, их туда и кладут, но нарезаны они так мелко, что их уже не найдешь.
Тем не менее все это, конечно, исправно съедается. Если кое-кто и в самом деле живет так
богато, что может не подъедать всего дочиста, то рядом с ним всегда стоит добрый десяток
желающих, которые с удовольствием возьмут у него остатки. Мы выливаем в бочки только то,
чего нельзя достать черпаком. Кроме того, мы иногда бросаем туда кожуру от брюквы,
заплесневевшие корки и разную дрянь.
Вот это жидкое, мутное, грязное месиво и разыскивают пленные. Они жадно вычерпывают его
из вонючих бочек и уносят, пряча под своими гимнастерками.
Странно видеть так близко перед собой этих наших врагов. Глядя на их лица, начинаешь
задумываться. У них добрые крестьянские лица, большие лбы, большие носы, большие губы,
большие руки, мягкие волосы. Их следовало бы использовать в деревне — на пахоте, на
косьбе, во время сбора яблок. Вид у них еще более добродушный, чем у наших фрисландских
крестьян.