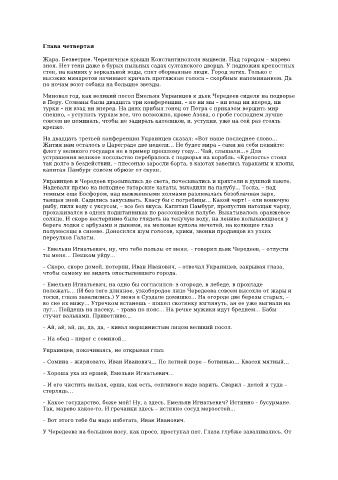Page 293 - Петр Первый
P. 293
Глава четвертая
Жара. Безветрие. Черепичные крыши Константинополя выцвели. Над городом – марево
зноя. Нет тени даже в бурых пыльных садах султанского дворца. У подножия крепостных
стен, на камнях у зеркальной воды, спят оборванные люди. Город затих. Только с
высоких минаретов начинают кричать протяжные голоса – скорбным напоминанием. Да
по ночам воют собаки на большие звезды.
Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье
в Перу. Созваны были двадцать три конференции, – но ни мы – ни взад ни вперед, ни
турки – ни взад ни вперед. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир
спешно, – уступить туркам все, что возможно, кроме Азова, о гробе господнем лучше
совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и, уступив, уже на сей раз стоять
крепко.
На двадцать третьей конференции Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово…
Жития нам осталось в Цареграде две недели… Не будет мира – сами на себя пеняйте:
флот у великого государя не в пример прошлому году… Чай, слышали…» Для
устрашения великое посольство перебралось с подворья на корабль. «Крепость» стоял
так долго в бездействии, – плесенью заросли борта, в каютах завелись тараканы и клопы,
капитан Памбург совсем обрюзг от скуки.
Украинцев и Чередеев просыпались до света, почесывались и кряхтели в душной каюте.
Надевали прямо на исподнее татарские халаты, выходили на палубу… Тоска, – над
темным еще Босфором, над выжженными холмами разливалась безоблачная заря,
таящая зной. Садились закусывать. Квасу бы с погребицы… Какой черт! – ели вонючую
рыбу, пили воду с уксусом, – все без вкуса. Капитан Памбург, пропустив натощак чарку,
прохаживался в одних подштанниках по рассохшейся палубе. Выкатывалось оранжевое
солнце. И скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у
берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаз
полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких
переулков Галаты.
– Емельян Игнатьевич, ну, что тебе пользы от меня, – говорил дьяк Чередеев, – отпусти
ты меня… Пешком уйду…
– Скоро, скоро домой, потерпи, Иван Иванович, – отвечал Украинцев, закрывая глаза,
чтобы самому не видеть опостылевшего города.
– Емельян Игнатьевич, на одно бы согласился: в огороде, в лебеде, в прохладе
полежать… (И без того длинное, узкобородое лицо Чередеева совсем высохло от жары и
тоски, глаза завалились.) У меня в Суздале домишко… На огороде две березы старых, –
во сне их вижу… Утречком встанешь – пошел скотинку взглянуть, ан ее уже выгнали на
луг… Пойдешь на пасеку, – трава по пояс… На речке мужики идут бреднем… Бабы
стучат вальками. Приветливо…
– Ай, ай, ай, да, да, да, – кивал морщинистым лицом великий посол.
– На обед – пирог с соминой…
Украинцев, покачиваясь, не открывая глаз:
– Сомина – жирновато, Иван Иванович… По летней поре – ботвинью… Квасок мятный…
– Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьевич…
– И его чистить нельзя, ерша, как есть, сопливого надо варить. Сварил – долой и туда –
стерлядь…
– Какое государство, боже мой! Ну, а здесь, Емельян Игнатьевич? Истинно – бусурмане.
Так, марево какое-то. И гречанки здесь – истинно сосуд мерзостей…
– Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович.
У Чередеева на большом носу, как просо, проступал пот. Глаза глубже заваливались. От