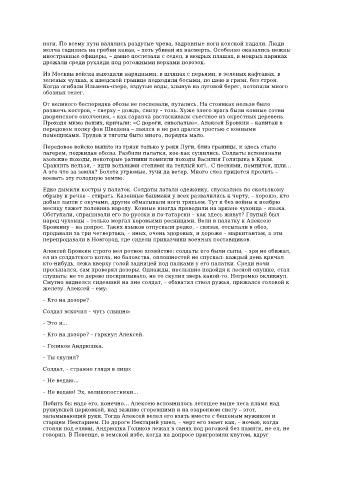Page 296 - Петр Первый
P. 296
ноги. По всему пути валялись раздутые чрева, задранные ноги конской падали. Люди
молча садились на гребни канав, – хоть убивай их насмерть. Особенно оказались нежны
иностранные офицеры, – давно послезали с седел, в мокрых плащах, в мокрых париках
дрожали среди рухляди под рогожными верхами повозок.
Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в
зеленых чулках, к шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя.
Когда огибали Ильмень-озеро, вздутые воды, хлынув на луговой берег, потопили много
обозных телег.
От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было
разжечь костров, – сверху – дождь, снизу – топь. Хуже злого врага были конные сотни
дворянского ополчения, – как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень.
Проходя мимо пеших, кричали: «С дороги, сиволапые». Алексей Бровкин – капитан в
передовом полку фон Шведена – лаялся и не раз дрался тростью с конными
помещиками. Трудов и тяготы было много, порядка мало.
Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги, близ границы, и здесь стало
лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали
азовские походы, некоторые ратники помнили походы Василия Голицына в Крым.
Сравнить нельзя, – идти вольными степями на теплый юг!.. С песнями, помнится, шли…
А это что за земля? Болота угрюмые, тучи да ветер. Много слез придется пролить –
воевать эту голодную землю.
Едко дымили костры у палаток. Солдаты латали одежонку, спускались по скользкому
обрыву к речке – стирать. Казенные башмаки у всех развалились к черту, – хорошо, кто
добыл лапти с онучами, другие обматывали ноги тряпьем. Тут и без войны к ноябрю
месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на аркане чухонца – языка.
Обступали, спрашивали его по-русски и по-татарски – как здесь живут? Глупый был
народ чухонцы – только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к Алексею
Бровкину – на допрос. Таких языков отпускали редко, – связав, отсылали в обоз,
продавали за три четвертака, – иных, очень здоровых, и дороже – маркитантам, а эти
перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков.
Алексей Бровкин строго вел ротное хозяйство: солдаты его были сыты, – зря не обижал,
ел из солдатского котла, но баловства, оплошностей не спускал: каждый день кричал
кто-нибудь, лежа кверху голой задницей под палками у его палатки. Среди ночи
просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя к лесной опушке, стал
слушать: не то дерево поскрипывало, не то скулил зверь какой-то. Негромко окликнул.
Смутно виднелся сидевший на пне солдат, – обхватил ствол ружья, прижался головой к
железу. Алексей – ему:
– Кто на дозоре?
Солдат вскочил – чуть слышно:
– Это я…
– Кто на дозоре? – гаркнул Алексей.
– Голиков Андрюшка.
– Ты скулил?
Солдат, – странно глядя в лицо:
– Не ведаю…
– Не ведаю! Эх, великопостники…
Побить бы надо его, конечно… Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над
рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими и на озаренном снегу – этот,
заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и
старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел, – черт его знает как, – ночью, когда
стояли под елями, Андрюшка Голиков лежал в санях под рогожей без памяти, не ел, не
говорил. В Повенце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг