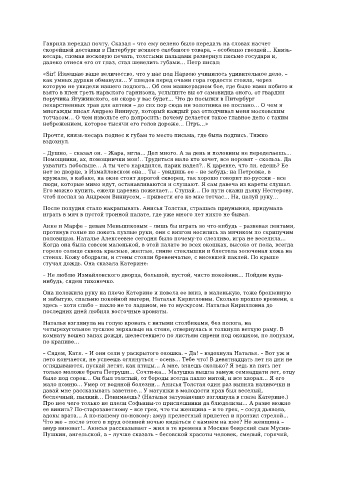Page 399 - Петр Первый
P. 399
Гаврила передал почту. Сказал – что ему велено было передать на словах насчет
скорейшей доставки в Питербург всякого скобяного товара, – особенно гвоздей… Князь-
кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и,
далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами… Петр писал:
«Sir! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело, –
как умных дураки обманули… У шведов перед очами гора гордости стояла, через
которую не увидели нашего подлога… Об сем машкерадном бое, где было нами побито и
взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии
поручика Ягужинского, он скоро у вас будет… Что до посылки в Питербург
лекарственных трав для аптеки – до сих пор сюда ни золотника не послано… О чем я
многажды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отподчивал меня московским
тотчасом… О чем извольте его допросить: почему делается такое главное дело с таким
небрежением, которое тысячи его голов дороже… Птръ…»
Прочтя, князь-кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко
вздохнул.
– Душно, – сказал он. – Жара, мгла… Дел много. А за день и половины не переделаешь…
Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все норовят – скользь. Да
ухватить побольше… А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее
нет во дворце, в Измайловском она… Ты – увидишь ее – не забудь: на Петровке, в
кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски – все
люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал.
Его можно купить, ежели царевна пожелает… Ступай… По пути скажи дьяку Нестерову,
чтоб послал за Андреем Виниусом, – привести его ко мне тотчас… На, целуй руку…
После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала
играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.
Анне и Марфе – девам Меньшиковым – лишь бы играть во что-нибудь – развевая лентами,
протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим
половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила…
Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда
горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на
стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше
стучал дождь. Она сказала Катерине:
– Не люблю Измайловского дворца, большой, пустой, чисто покойник… Пойдем куда-
нибудь, сядем тихонечко.
Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз, в маленькую, тоже брошенную
и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а
здесь – хотя слабо – пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до
последних дней любила восточные ароматы.
Наталья взглянула на голую кровать с витыми столбиками, без полога, на
четырехугольное тусклое зеркальце на стене, отвернулась и толкнула ветхую раму. В
комнату вошел запах дождя, шелестевшего по листьям сирени под окошком, по лопухам,
по крапиве…
– Сядем, Катя. – И они сели у раскрытого окошка. – Да! – вздохнула Наталья. – Вот уж и
лето кончается, не успеешь оглянуться – осень… Тебе что! В девятнадцать лет на дни не
оглядываются, пускай летят, как птицы… А мне, знаешь сколько? Я ведь на пять лет
только моложе брата Петруши… Сочти-ка… Матушка вышла замуж семнадцати лет, отцу
было под сорок… Он был толстый, от бороды всегда пахло мятой, и все хворал… Я его
мало помню… Умер от водяной болезни… Анисья Толстая один раз выпила наливочки и
давай мне рассказывать заветное… У матушки в молодости нрав был веселый,
беспечный, пылкий… Понимаешь? (Наталья затуманенно взглянула в глаза Катерине.)
Про нее чего только не плели Софьины-то приспешники да блюдолизы… А разве можно
ее винить? По-старозаветному – все грех, что ты женщина – и то грех, – сосуд дьявола,
адовы врата… А по-нашему по-новому: амур прелестный прилетел и пронзил стрелой…
Что же – после этого в пруд осенней ночью кидаться с камнем на шее? Не женщина –
амур виноват!.. Анисья рассказывает – жил в те времена в Москве боярский сын Мусин-
Пушкин, ангельской, а – лучше сказать – бесовской красоты человек, смелый, горячий,