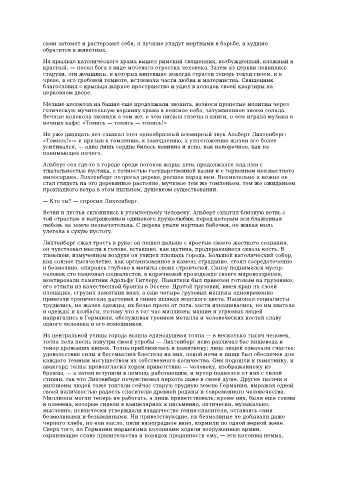Page 17 - Рассказы
P. 17
сами затомят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие
обратятся в животных.
На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и
красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились
старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в
чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник
благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на
церковном дворе.
Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через
готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца.
Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в
ночных кафе: «Томись — томись — томись!»
Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг:
«Томись!»— и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более
усиливался, — одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не
понимающее ничего.
Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с
тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного
милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он
стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем
прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.
— Кто ты? — спросил Лихтенберг.
Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с
той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная
любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль
улетела в сухую пустоту.
Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания,
он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В
тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор,
как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно
и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор:
человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения,
монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике,
его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей
площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно
привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты
трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало
и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей
напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу
одного человека и его помощников.
Из центральной улицы города вышла единодушная толпа — в несколько тысяч человек,
толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и
тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье:
удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для
каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и
авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из
бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой
стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и
миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной
своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества.
Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы
и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально,
мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами
безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже
черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене.
Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии,
охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — эти колонны немых,