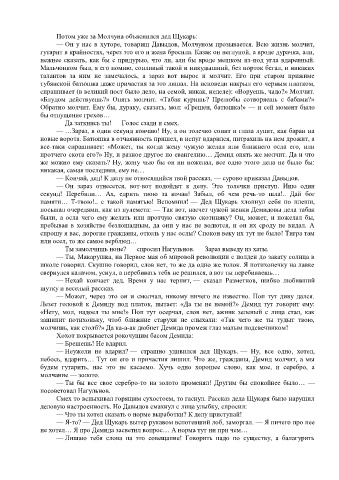Page 82 - Поднятая целина
P. 82
Потом уже за Молчуна объяснился дед Щукарь:
— Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, Молчуном прозывается. Всю жизнь молчит,
гутарит в крайностях, через это его и жена бросила. Казак он неглупой, а вроде дурачка, али,
нежнее сказать, как бы с придурью, что ли, али бы вроде мешком из-под угла вдаренный.
Мальчонком был, я его помню, сопливый такой и никудышний, без порток бегал, и никаких
талантов за ним не замечалось, а зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме
тубянской батюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком,
спрашивает (в великий пост было дело, на семой, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит.
«Блудом действуешь?» Опять молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворяешь с бабами?»
Обратно молчит. Ему бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» — и сей момент было
бы отпущение грехов…
— Да заткнись ты! — Голос сзади и смех.
— …Зараз, в один секунд кончаю! Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на
новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдарился, питрахиль на нем дрожит, а
все-таки спрашивает: «Может, ты когда жену чужую желал или ближнего осла его, или
протчего скота его?» Ну, и разное другое по евангелию… Демид опять же молчит. Да и что
же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он ни пожелал, все одно этого дела не было бы:
никакая, самая последняя, ему не…
— Кончай, дед! К делу не относящийся твой рассказ, — сурово приказал Давыдов.
— Он зараз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это толечки приступ. Ишо один
секунд! Перебили… Ах, едрить твою за кочан! Забыл, об чем речь-то шла!.. Дай бог
памяти… Т-твою!.. с такой памятью! Вспомнил! — Дед Щукарь хлопнул себя по плеши,
посыпал очередями, как из пулемета: — Так вот, насчет чужой женки Демидовы дела табак
были, а осла чего ему желать или протчую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы,
пребывая в хозяйстве безлошадным, да они у нас не водются, и он их сроду не видал. А
спрошу я вас, дорогие гражданы, откель у нас ослы? Спокон веку их тут не было! Тигра там
или осел, то же самое верблюд…
— Ты замолчишь ноне? — спросил Нагульнов. — Зараз выведу из хаты.
— Ты, Макарушка, на Первое мая об мировой революции с полден до закату солнца в
школе говорил. Скушно говорил, слов нет, то же да одно же толок. Я потихонечку на лавке
свернулся калачом, уснул, а перебивать тебя не решился, а вот ты перебиваешь…
— Нехай кончает дед. Время у нас терпит, — сказал Разметнов, шибко любивший
шутку и веселый рассказ.
— Может, через это он и смолчал, никому ничего не известно. Поп тут диву дался.
Лезет головой к Демиду под платок, пытает: «Да ты не немой?» Демид тут говорит ему:
«Нету, мол, надоел ты мне!» Поп тут осерчал, слов нет, ажник зеленый с лица стал, как
зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи не слыхали: «Так чего же ты тудыт твою,
молчишь, как столб?» Да ка-а-ак дюбнет Демида промеж глаз малым подсвечником!
Хохот покрывается рокочущим басом Демида:
— Брешешь! Не вдарил.
— Неужели не вдарил? — страшно удивился дед Щукарь. — Ну, все одно, хотел,
небось, вдарить… Тут он его и причастия лишил. Что же, гражданы, Демид молчит, а мы
будем гутарить, нас это не касаемо. Хучь одно хорошее слово, как мое, и серебро, а
молчание — золото.
— Ты бы все свое серебро-то на золото променял! Другим бы спокойнее было… —
посоветовал Нагульнов.
Смех то вспыхивал горящим сухостоем, то гаснул. Рассказ деда Щукаря было нарушил
деловую настроенность. Но Давыдов смахнул с лица улыбку, спросил:
— Что ты хотел сказать о норме выработки? К делу приступай!
— Я-то? — Дед Щукарь вытер рукавом вспотевший лоб, заморгал. — Я ничего про нее
не хотел… Я про Демида засветил вопрос… А норма тут ни при чем…
— Лишаю тебя слова на это совещание! Говорить надо по существу, а балагурить