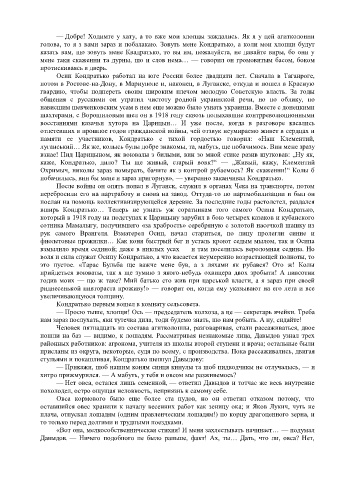Page 85 - Поднятая целина
P. 85
— Добре! Ходимте у хату, а то вже мои хлопцы заждались. Як я у цей агитколонни
голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовуть мене Кондратько, а коли мои хлопци будут
казать вам, що зовуть мене Квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайте виры, бо они у
мене таки скаженни та дурны, шо и слов нема… — говорил он громовитым басом, боком
протискиваясь в дверь.
Осип Кондратько работал на юге России более двадцати лет. Сначала в Таганроге,
потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную
гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую Советскую власть. За годы
общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по
нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими
шахтерами, с Ворошиловым шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными
восстаниями казачьи хутора на Царицын… И уже после, когда в разговоре касались
отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и
памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил: «Наш Клементий,
луганський… Як же, колысь булы добре знакомы, та, мабуть, ще побачимось. Вин мене зразу
взнае! Пид Царицыном, як воювалы з билыми, вин зо мной стике разив шутковав: „Ну як,
каже, Кондратько, дило? Ты ще живый, старый вовк?“ — „Живый, кажу, Клементий
Охримыч, николы зараз помырать, бачите як з контрой рубаемось? Як скаженни!“ Колы б
побачилысь, вин бы мене и зараз пригорнув», — уверенно заканчивал Кондратько.
После войны он опять попал в Луганск, служил в органах Чека на транспорте, потом
перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то по партмобилизации и был он
послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался
вширь Кондратько… Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратько,
который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского
сотника Мамалыгу, получившего «за храбрость» серебряную с золотой насечкой шашку из
рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и
фиолетовые прожилки… Как коня быстрый бег и усталь кроют седым мылом, так и Осипа
взмылило время сединой; даже в никлых усах — и там поселилась вероломная седина. Но
воля и сила служат Осипу Кондратько, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то
это пустое. «Тарас Бульба ще важче мене був, а з ляхами як рубався? Ото ж! Колы
прийдеться воюваты, так я ще зумию з якого-небудь охвицера двох зробыти! А пивсотни
годив моих — що ж таке? Мий батько сто жив при царськой власти, а я зараз при своей
риднесенькой пивтораста проживу!» — говорит он, когда ему указывают на его лета и все
увеличивающуюся толщину.
Кондратько первым вошел в комнату сельсовета.
— Просю тыше, хлопци! Ось — председатель колхоза, а це — секретарь ячейки. Треба
нам зараз послухать, яки тутечка дила, тоди будемо знать, шо нам робыть. А ну, сидайте!
Человек пятнадцать из состава агитколонны, разговаривая, стали рассаживаться, двое
пошли на баз — видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трех
районных работников: агронома, учителя из школы второй ступени и врача; остальные были
присланы из округа, некоторые, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая
стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову:
— Прикажи, шоб нашим коням синця кинулы та шоб пидводчикы не отлучалысь, — и
хитро прижмурился. — А мабуть, у тебя и овсом мы разживемось?
— Нет овса, остался лишь семенной, — ответил Давыдов и тотчас же весь внутренне
похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе.
Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом потому, что
оставшийся овес хранили к началу весенних работ как зеницу ока; и Яков Лукич, чуть не
плача, отпускал лошадям (одним правленческим лошадям!) по корцу драгоценного зерна, и
то только перед долгими и трудными поездками.
«Вот она, мелкособственническая стихия! И меня захлестывать начинает… — подумал
Давыдов. — Ничего подобного не было раньше, факт! Ах, ты… Дать, что ли, овса? Нет,