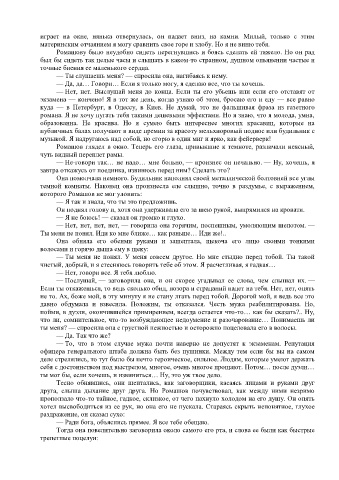Page 121 - Поединок
P. 121
играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз, на камни. Милый, только с этим
материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя.
Ромашову было неудобно сидеть перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад
был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и
точные биения ее маленького сердца.
— Ты слушаешь меня? — спросила она, нагибаясь к нему.
— Да, да… Говори… Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь.
— Нет, нет. Выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от
экзамена — кончено! Я в тот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду — все равно
куда — в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного
романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна,
образованна. Не красива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на
публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с
музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк!
Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный,
чуть видный переплет рамы.
— Не-говори так… не надо… мне больно, — произнес он печально. — Ну, хочешь, я
завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним? Сделать это?
Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы
темной комнаты. Наконец она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражением,
которого Ромашов не мог уловить:
— Я так и знала, что ты это предложишь.
Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати.
— Я не боюсь! — сказал он громко и глухо.
— Нет, нет, нет, нет, — говорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. —
Ты меня не понял. Иди ко мне ближе… как раньше… Иди же!..
Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими
волосами и горячо дыша ему в щеку:
— Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой
чистый, добрый, и я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая…
— Нет, говори все. Я тебя люблю.
— Послушай, — заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. —
Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять
не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это
давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но,
пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то… как бы сказать?.. Ну,
что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование… Понимаешь ли
ты меня? — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы.
— Да. Так что же?
— То, что в этом случае мужа почти наверно не допустят к экзаменам. Репутация
офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем если бы вы на самом
деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать
себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом… после дуэли…
ты мог бы, если хочешь, и извиниться… Ну, это уж твое дело.
Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг
друга, слыша дыхание друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо
проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло холодом на его душу. Он опять
хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое
раздражение, он сказал сухо:
— Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю.
Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были как быстрые
трепетные поцелуи: