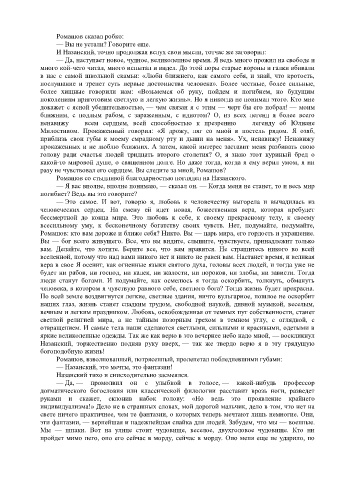Page 117 - Поединок
P. 117
Ромашов сказал робко:
— Вы не устали? Говорите еще.
И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас же заговорил:
— Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я ведь много прожил на свободе и
много кой-чего читал, много испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки вбивали
в нас с самой школьной скамьи: «Люби ближнего, как самого себя, и знай, что кротость,
послушание и трепет суть первые достоинства человека». Более честные, более сильные,
более хищные говорили нам: «Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим
поколениям приготовим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал этого. Кто мне
докажет с ясной убедительностью, — чем связан я с этим — черт бы его побрал! — моим
ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? О, из всех легенд я более всего
ненавижу — всем сердцем, всей способностью к презрению — легенду об Юлиане
Милостивом. Прокаженный говорил: «Я дрожу, ляг со мной в постель рядом. Я озяб,
приблизь свои губы к моему смрадному рту и дыши на меня». Ух, ненавижу! Ненавижу
прокаженных и не люблю ближних. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою
голову ради счастья людей тридцать второго столетия? О, я знаю этот куриный бред о
какой-то мировой душе, о священном долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни
разу не чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов?
Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на Назанского.
— Я вас вполне, вполне понимаю, — сказал он. — Когда меня не станет, то и весь мир
погибнет? Ведь вы это говорите?
— Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из
человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет
бессмертной до конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу, к своему
всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств. Нет, подумайте, подумайте,
Ромашов: кто вам дороже и ближе себя? Никто. Вы — царь мира, его гордость и украшение.
Вы — бог всего живущего. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит только
вам. Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей
вселенной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет время, и великая
вера в свое Я осенит, как огненные языки святого духа, головы всех людей, и тогда уже не
будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда
люди станут богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть
человека, в котором я чувствую равного себе, светлого бога? Тогда жизнь будет прекрасна.
По всей земле воздвигнутся легкие, светлые здания, ничто вульгарное, пошлое не оскорбит
наших глаз, жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым,
вечным и легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут собственности, станет
светлой религией мира, а не тайным позорным грехом в темном углу, с оглядкой, с
отвращением. И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и красивыми, одетыми в
яркие великолепные одежды. Так же как верю в это вечернее небо надо мной, — воскликнул
Назанский, торжественно подняв руку вверх, — так же твердо верю я в эту грядущую
богоподобную жизнь!
Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал побледневшими губами:
— Назанский, это мечты, это фантазии!
Назанский тихо и снисходительно засмеялся.
— Да, — промолвил он с улыбкой в голосе, — какой-нибудь профессор
догматического богословия или классической филологии расставит врозь ноги, разведет
руками и скажет, склонив набок голову: «Но ведь это проявление крайнего
индивидуализма!» Дело не в страшных словах, мой дорогой мальчик, дело в том, что нет на
свете ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они,
эти фантазии, — вернейшая и надежнейшая спайка для людей. Забудем, что мы — военные.
Мы — шпаки. Вот на улице стоит чудовище, веселое, двухголовое чудовище. Кто ни
пройдет мимо него, оно его сейчас в морду, сейчас в морду. Оно меня еще не ударило, но