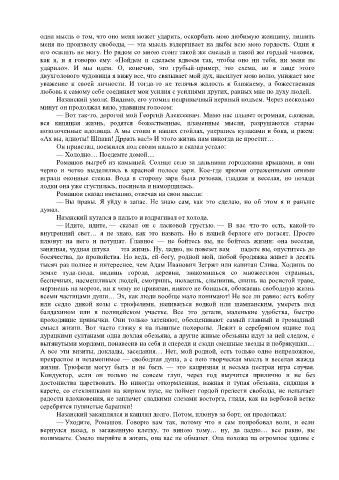Page 118 - Поединок
P. 118
одна мысль о том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить
меня по произволу свободы, — эта мысль вздергивает на дыбы всю мою гордость. Один я
его осилить не могу. Но рядом со мною стоит такой же смелый и такой же гордый человек,
как я, и я говорю ему: «Пойдем и сделаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не
ударило». И мы идем. О, конечно, это грубый-пример, это схема, но в лице этого
двухголового чудовища я вижу все, что связывает мой дух, насилует мою волю, унижает мое
уважение к своей личности. И тогда-то не телячья жалость к ближнему, а божественная
любовь к самому себе соединяет мои усилия с усилиями других, равных мне по духу людей.
Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный нервный подъем. Через несколько
минут он продолжал вяло, упавшим голосом:
— Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас плывет огромная, сложная,
вся кипящая жизнь, родятся божественные, пламенные мысли, разрушаются старые
позолоченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока, и ржем:
«Ах вы, идиоты! Шпаки! Дррать вас!» И этого жизнь нам никогда не простит…
Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало:
— Холодно… Поедемте домой…
Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними городскими крышами, и они
черно и четко выделялись в красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями
играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая, гладкая и веселая, но позади
лодки она уже сгустилась, посинела и наморщилась.
Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли:
— Вы правы. Я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше
думал.
Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода.
— Идите, идите, — сказал он с ласковой грустью. — В вас что-то есть, какой-то
внутренний свет… я не знаю, как это назвать. Но в нашей берлоге его погасят. Просто
плюнут на него и потушат. Главное — не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая,
занятная, чудная штука — эта жизнь. Ну, ладно, не повезет вам — падете вы, опуститесь до
босячества, до пропойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в десять
тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иванович Зегржт или капитан Слива. Ходишь по
земле туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных,
беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой траве,
мерзнешь на морозе, ни к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь
всеми частицами души… Эх, как люди вообще мало понимают! Не все ли равно: есть воблу
или седло дикой козы с трюфелями, напиваться водкой или шампанским, умереть под
балдахином или в полицейском участке. Все это детали, маленькие удобства, быстро
проходящие привычки. Они только затеняют, обесценивают самый главный и громадный
смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похороны. Лежит в серебряном ящике под
дурацкими султанами одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней следом, с
вытянутыми мордами, понавесив на себя и спереди и сзади смешные звезды и побрякушки…
А все эти визиты, доклады, заседания… Нет, мой родной, есть только одно непреложное,
прекрасное и незаменимое — свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда
жизни. Трюфели могут быть и не быть — это капризная и весьма пестрая игра случая.
Кондуктор, если он только не совсем глуп, через год выучится прилично и не без
достоинства царствовать. Но никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в
карете, со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой прелести свободы, не испытает
радости вдохновения, не заплачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой ветке
серебрятся пушистые барашки!
Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал:
— Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли, и если
вернулся назад, в загаженную клетку, то виною тому… ну, да ладно… все равно, вы
понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на огромное здание с