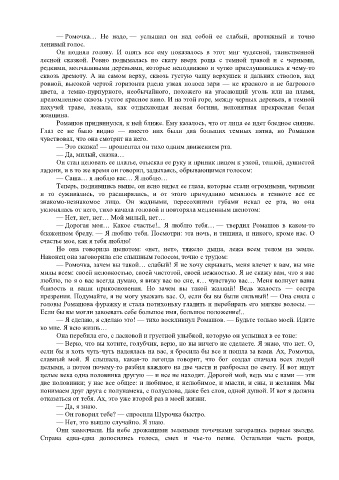Page 76 - Поединок
P. 76
— Ромочка… Не надо, — услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно
ленивый голос.
Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной
лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными,
редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то
сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над
ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари — не красного и не багрового
цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя,
преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной
пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная прекрасная белая
женщина.
Ромашов придвинулся, к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние.
Глаз ее не было видно — вместо них были два больших темных пятна, но Ромашов
чувствовал, что она смотрит на него.
— Это сказка! — прошептал он тихо одним движением рта.
— Да, милый, сказка…
Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой
ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:
— Саша… я люблю вас… Я люблю…
Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными
и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее
знакомо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она
уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:
— Нет, нет, нет… Мой милый, нет…
— Дорогая моя… Какое счастье!.. Я люблю тебя… — твердил Ромашов в каком-то
блаженном бреду. — Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О
счастье мое, как я тебя люблю!
Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле.
Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом:
— Ромочка, зачем вы такой… слабый! Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне
милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас
люблю, по я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я… чувствую вас… Меня волнует ваша
близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра
презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! — Она сняла с
головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. —
Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..
— Я сделаю, я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов. — Будьте только моей. Идите
ко мне. Я всю жизнь…
Она перебила его, с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне:
— Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О,
если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка,
славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог создал сначала всех людей
целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут
целые века одна половинка другую — и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами — эти
две половинки; у нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы
понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна
отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни.
— Да, я знаю.
— Он говорил тебе? — спросила Шурочка быстро.
— Нет, это вышло случайно. Я знаю.
Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды.
Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи,