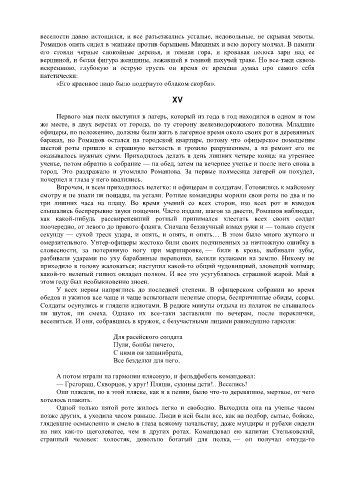Page 79 - Поединок
P. 79
веселости давно истощился, и все разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты.
Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти
его стояли черные спокойные деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее
вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь
искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя
патетически:
«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».
XV
Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том
же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие
офицеры, по положению, должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных
бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение
шестой роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не
оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее
ученье, потом обратно в собрание — на обед, затем на вечернее ученье и после него снова в
город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел,
почернел и глаза у него ввалились.
Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и солдатам. Готовились к майскому
смотру и не знали ни пощады, на устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по
три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов
слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал,
как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать всех своих солдат
поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя
секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять… В этом было много жуткого и
омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в
словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы,
разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не
приходило в голову жаловаться; наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар;
какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в
этом году был необыкновенно зноен.
У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время
обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры.
Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось
ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам, после переклички,
веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:
Для расейского солдата
Пули, бонбы ничего,
С ними он запанибрата,
Все безделки для него.
А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:
— Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!
Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего
хотелось плакать.
Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Выходила она на ученье часом
позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие,
глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству; даже мундиры и рубахи сидели
на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский,
странный человек: холостяк, довольно богатый для полка, — он получал откуда-то