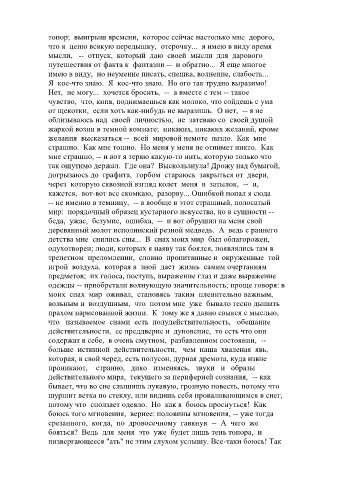Page 44 - Приглашение на казнь
P. 44
топор; выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого,
что я ценю всякую передышку, отсрочку... я имею в виду время
мысли, -- отпуск, который даю своей мысли для дарового
путешествия от факта к фантазии -- и обратно... Я еще многое
имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость...
Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но ого так трудно выразимо!
Нет, не могу... хочется бросить, -- а вместе с тем -- такое
чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума
от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, -- я не
облизываюсь над своей личностью, не затеваю со своей душой
жаркой возни в темной комнате; никаких, никаких желаний, кроме
желания высказаться -- всей мировой немоте назло. Как мне
страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Как
мне страшно, -- и вот я теряю какую-то нить, которую только что
так ощутимо держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой,
догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери,
через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, -- и,
кажется, вот-вот все скомкаю, разорву... Ошибкой попал я сюда
-- не именно в темницу, -- а вообще в этот страшный, полосатый
мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности --
беда, ужас, безумие, ошибка, -- и вот обрушил на меня свой
деревянный молот исполинский резной медведь. А ведь с раннего
детства мне снились сны... В снах моих мир был облагорожен,
одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в
трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той
игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям
предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение
одежды -- приобретали волнующую значительность; проще говоря: в
моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным,
вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать
прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью,
что называемое снами есть полудействительность, обещание
действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они
содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, --
больше истинной действительности, чем наша хваленая явь,
которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне
проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы
действительного мира, текущего за периферией сознания, -- как
бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что
шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег,
потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! Как
боюсь того мгновения, вернее: половины мгновения, -- уже тогда
срезанного, когда, по дровосечному гавкнув -- А чего же
бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и
низвергающееся "ать" не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так