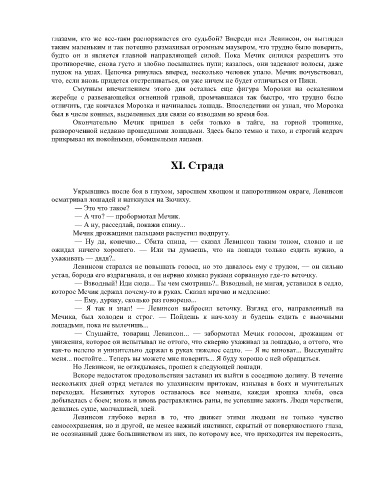Page 44 - Разгром
P. 44
глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой? Впереди шел Левинсон, он выглядел
таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить,
будто он и является главной направляющей силой. Пока Мечик силился разрешить это
противоречие, снова густо и злобно посыпались пули; казалось, они задевают волосы, даже
пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал,
что, если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики.
Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном
жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было
отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка
был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя.
Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке,
развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач
прикрывал их покойными, обомшелыми лапами.
XI. Страда
Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон
осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху.
— Это что такое?
— А что? — пробормотал Мечик.
— А ну, расседлай, покажи спину...
Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу.
— Ну да, конечно... Сбита спина, — сказал Левинсон таким тоном, словно и не
ожидал ничего хорошего. — Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а
ухаживать — дядя?..
Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом, — он сильно
устал, борода его вздрагивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку.
— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?.. Взводный, не мигая, уставился в седло,
которое Мечик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно:
— Ему, дураку, сколько раз говорено...
— Я так и знал! — Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на
Мечика, был холоден и строг. — Пойдешь к нач-хозу и будешь ездить с вьючными
лошадьми, пока не вылечишь...
— Слушайте, товарищ Левинсон... — забормотал Мечик голосом, дрожащим от
унижения, которое он испытывал не оттого, что скверно ухаживал за лошадью, а оттого, что
как-то нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло. — Я не виноват... Выслушайте
меня... постойте... Теперь вы можете мне поверить... Я буду хорошо с ней обращаться.
Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади.
Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение
нескольких дней отряд метался по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных
переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крошка хлеба, овса
добывалась с боем; вновь и вновь растравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели,
делались суше, молчаливей, злей.
Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство
самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза,
не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить,