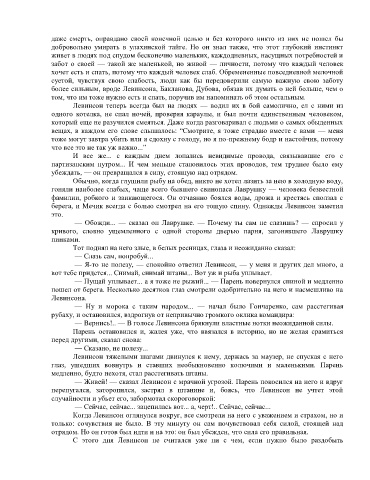Page 45 - Разгром
P. 45
даже смерть, оправдано своей конечной целью и без которого никто из них не пошел бы
добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт
живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и
забот о своей — такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек
хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной мелочной
суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу
более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их думать о ней больше, чем о
том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным.
Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из
одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком,
который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных
вещах, в каждом его слове слышалось: “Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня
тоже могут завтра убить или я сдохну с голоду, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому
что все это не так уж важно...”
И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с
партизанским нутром... И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее было ему
убеждать, — он превращался в силу, стоящую над отрядом.
Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду,
гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной
фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь сползал с
берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину. Однажды Левинсон заметил
это.
— Обожди... — сказал он Лаврушке. — Почему ты сам не слазишь? — спросил у
кривого, словно ущемленного с одной стороны дверью парня, загонявшего Лаврушку
пинками.
Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и неожиданно сказал:
— Слазь сам, попробуй...
— Я-то не полезу, — спокойно ответил Левинсон, — у меня и других дел много, а
вот тебе придется... Снимай, снимай штаны... Вот уж и рыба уплывает.
— Пущай уплывает... а я тоже не рыжий... — Парень повернулся спиной и медленно
пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на
Левинсона.
— Ну и морока с таким народом... — начал было Гончаренко, сам расстегивая
рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира:
— Вернись!.. — В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы.
Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться
перед другими, сказал снова:
— Сказано, не полезу...
Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него
глаз, ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень
медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны.
— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой. Парень покосился на него и вдруг
перепугался, заторопился, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой
случайности и убьет его, забормотал скороговоркой:
— Сейчас, сейчас... зацепилась вот... а, черт!.. Сейчас, сейчас...
Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и
только: сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над
отрядом. Но он готов был идти и на это: он был убежден, что сила его правильная.
С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть