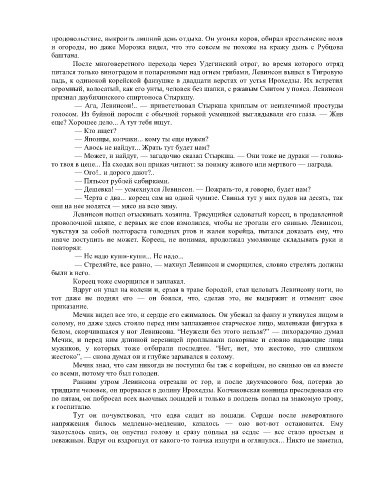Page 46 - Разгром
P. 46
продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля
и огороды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рубцова
баштана.
После многоверстного перехода через Удегинский отрог, во время которого отряд
питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую
падь, к одинокой корейской фанзушке в двадцати верстах от устья Ирохедзы. Их встретил
огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки, с ржавым Смитом у пояса. Левинсон
признал даубихинского спиртоноса Стыркшу.
— Ага, Левинсон!.. — приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды
голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза. — Жив
еще? Хорошее дело... А тут тебя ищут.
— Кто ищет?
— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен?
— Авось не найдут... Жрать тут будет нам?
— Может, и найдут, — загадочно сказал Стыркша. — Они тоже не дураки — голова-
то твоя в цене... На сходах вон приказ читают: за поимку живого или мертвого — награда.
— Ого!.. и дорого дают?..
— Пятьсот рублей сибирками.
— Дешевка! — усмехнулся Левинсон. — Пожрать-то, я говорю, будет нам?
— Черта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них пудов на десять, так
они на нее молятся — мясо на всю зиму.
Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся седоватый кореец, в продавленной
проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон,
чувствуя за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что
иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и
повторял:
— Не надо куши-куши... Не надо...
— Стреляйте, все равно, — махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны
были в него.
Кореец тоже сморщился и заплакал.
Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но
тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое
приказание.
Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в
солому, но даже здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в
белом, скорчившаяся у ног Левинсона. “Неужели без этого нельзя?” — лихорадочно думал
Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица
мужиков, у которых тоже отбирали последнее. “Нет, нет, это жестоко, это слишком
жестоко”, — снова думал он и глубже зарывался в солому.
Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе
со всеми, потому что был голоден.
Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до
тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его
по пятам, он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу,
к госпиталю.
Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце после невероятного
напряжения билось медленно-медленно, казалось — оно вот-вот остановится. Ему
захотелось спать, он опустил голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и
неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся... Никто не заметил,