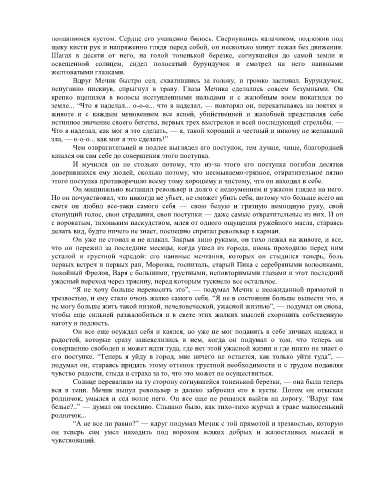Page 88 - Разгром
P. 88
попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под
щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения.
Шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и
освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными
желтоватыми глазками.
Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок,
испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он
крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по
земле... “Что я наделал... о-о-о... что я наделал, — повторял он, перекатываясь на локтях и
животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе
истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы. —
Что я наделал, как мог я это сделать, — я, такой хороший и честный и никому не желавший
зла, — о-о-о... как мог я это сделать!”
Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней
казался он сам себе до совершения этого поступка.
И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки
доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно
этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.
Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него.
Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на
свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой
стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он
с вороватым, тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь
делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман.
Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе, и все,
что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним
усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль
первых встреч и первых ран, Морозка, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками,
покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами и этот последний
ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное.
“Я не хочу больше переносить это”, — подумал Мечик с неожиданной прямотой и
трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. “Я не в состоянии больше вынести это, я
не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью”, — подумал он снова,
чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную
наготу и подлость.
Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и
радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он
совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о
его поступке. “Теперь я уйду в город, мне ничего не остается, как только уйти туда”, —
подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя
чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться.
Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки, — она была теперь
вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал
родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. “Вдруг там
белые?..” — думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький
родничок...
“А не все ли равно?” — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую
он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и
чувствований.