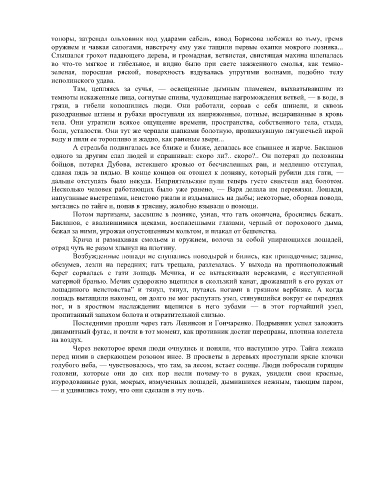Page 84 - Разгром
P. 84
топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя
оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка...
Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась
во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-
зеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу
исполинского удава.
Там, цепляясь за сучья, — освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из
темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей, — в воде, в
грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь
разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь
тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда,
боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой
воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...
А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов
одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины
бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал,
сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати, —
дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом.
Несколько человек работающих было уже ранено, — Варя делала им перевязки. Лошади,
напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы; некоторые, оборвав повода,
метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.
Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать.
Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма,
бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.
Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей,
отряд чуть не разом хлынул на плотину.
Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние,
обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный
берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной
матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от
лошадиного неистовства” и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда
лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних
ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами — в этот горчайший узел,
пропитанный запахом болота и отвратительной слизью.
Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить
динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела
на воздух.
Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала
перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки
голубого неба, — чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие
головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные,
изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром,
— и удивились тому, что они сделали в эту ночь.